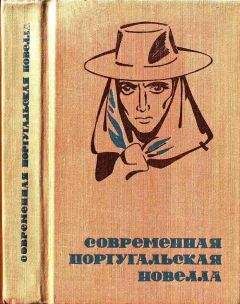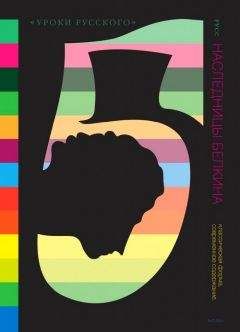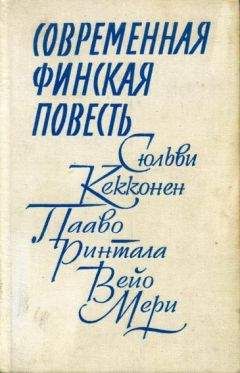Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
— Простите… А, здравствуй! — И какой-то мужчина звонко чмокает ее в обе щеки. В те времена поцелуи на людях между особами разного пола еще не были столь привычны, как сейчас. Молодой, светловолосый, спортивного вида, он прошел (я неторопливо и внимательно разглядывал его) и сел в нашем ряду.
— Кто это?
— Сослуживец. Из нашей конторы.
«Возможно, из тех, кто спал с ней до меня?» В ту пору я еще не мог подавлять в себе такого рода нездорового любопытства, хотя и не позволял себе вспышек ревности. Со временем и любопытство исчезло. А тогда еще не существовало понятия «супермен», но я уже стыдился ревности, как чувства, недостойного мужчины, хотя воображение не всегда подчинялось мне, рисуя горькие картины.
— Алберто, поедем в воскресенье куда-нибудь за город, хорошо? Я так люблю свежий воздух и солнце, для меня счастье — видеть деревья, вдыхать запах травы и земли… Глупо вечно торчать в городе!
— О’кей!
«Где правда и где ложь в том, что нам говорят? А как различить долю правды во лжи?» Каролина лжет с поразительной достоверностью. Она поведала мне, что ее родители хоть и не богаты, но оба из аристократических семей. Потом вдруг выяснилось, что ее мать — француженка. Узнав о моих демократических убеждениях, она поспешила сообщить мне, что ее отец сражался на стороне «красных» в Испании. Если верить ей, то ее отцом освоены тринадцать или даже четырнадцать профессий (назавтра она забывает обо всем, что говорила накануне), чем этот человек повергает меня в страх и уныние, впрочем, я думаю, не меня первого. Кто же был первым? Откуда мне знать! Боль и наслаждение (когда оно выпадает на твою долю), кинжалы солнечных лучей — вот оно — наше язычество, вот чему мы поклоняемся, и я, и мы все, даже если и пытаемся это отрицать, а я как раз из тех, кто отрицает.
— Ведь сейчас, Алберто, такие славные деньки! Ты не любишь солнца? Но что может быть прекраснее… Слушай, Алберто, что с тобой? Тебе скучно?
— Да нет, со мной все в порядке. Просто эти перерывы между сеансами ужасно затянуты. Только у нас, в Португалии, додумались до такого.
— Ты прав. Дерьмовая страна.
А ведь моя милая Каролина, моя возлюбленная на этот вечер, на эту неделю, может быть, на этот месяц, никогда не была за границей. Но говорит и судит авторитетным тоном, безоговорочно. Из нее выйдет отменная лузитанская жена, несмотря на некоторую склонность к притворству и обману. Стиль Брижиды Ваз уже не в моде. А стало быть…
Взгляд Каролины сначала окинул люстры на потолке, затем скользнул вправо. Я проследил за ним и увидел Каролининого сослуживца, который смотрел на нее, но поспешил отвести взгляд, видимо, из мужской солидарности. Несмотря на мое вполне искреннее и подчеркнутое (уже в порядке самозащиты) признание полной свободы Каролины (друзья называют ее Карлой), меня начал бесить этот сослуживец со своей самодовольной улыбочкой и лицом великосветского Аккатоне[93]. Я невольно сравнивал себя с ним, и сравнение было явно не в мою пользу. Мне захотелось (от чего я сам пришел в ужас) избить его, и меня бы не остановило, что он — ее коллега, и не только коллега — это видно невооруженным глазом: правда, в повседневной служебной сутолоке редко выпадает случай уединиться, не так ли? Но я поспешил убедить себя, что драка была бы смешным донжуанством.
Свет погасили. Перед нашими глазами возникал поэтический и жизненно правдивый мир неореализма. Рука Каролины потянулась к моей и положила ее себе на обтянутое шелком упругое бедро. Я не противился, рука моя была как неживая (впрочем, не совсем), пусть ее направляют, пусть делают с ней что хотят. Но следя за простыми и естественными героями Витторио де Сика, я мысленно оставался далеко, возле учреждения, где работала Каролина, — внизу, у входа, где я всегда ее поджидал. Вот уже несколько недель я каждый день — без преувеличения — стоял на тротуаре и смотрел на высокие окна пятого этажа. Подходил к ближайшей молочной взглянуть на стенные часы. Выпивал глоток чего-нибудь, возвращался, курил, прислонившись к фонарному столбу, и, признаюсь, нервничал. Подниматься к Каролине я не хотел. Но воображение настойчиво (и причиняя боль) подсказывало мне подробности того, что там делается: Каролина, разумеется, не успевает отбиваться от шуточек, анекдотов, от рук, которым дают волю под видом дружеской непринужденности — «один распутный мужчина стоит двоих», — это слова Луиса Сервейры, а он знает, что говорит. Почему бы машинистке не принимать ухаживанья развязных клерков? Чем они хуже меня? Не думал же я жениться на Каролине? А почему бы нет? В те времена у всех нас была просто мания жениться.
Я жил в бедности или почти в бедности. Ютился в дешевом пансионе, изучал филологию и право, изворачивался как мог, зарабатывая восемьсот эскудо в месяц, и не терял надежды найти приличное место (какое место считается у нас приличным?) и перехитрить собственную судьбу. Моя беда была в том, что я вырос в других условиях, где успел приобрести «деликатность чувств», излишнюю впечатлительность, что заставляло меня страдать и делало меня менее приспособленным к жизненной борьбе.
С Каролиной я был уже знаком несколько месяцев: обыкновенная машинисточка (пять классов лицея), хорошенькая, веселая, она беспечно взирала на жизнь сквозь розовые очки и судила о ней по рецептам иллюстрированных журналов. Ко мне она относилась с ласковостью почти материнской и чуть сентиментальной. Не могу постичь, как я мог ей понравиться — такой обидчивый и мудреный: иногда я ни с того ни с сего высмеивал ее, а потом целовал с глубокой нежностью, предназначенной не ей. Она говорила, что обожает меня. Должно быть, она и сама в это верила.
Каюсь, я уже почти не смотрел на экран, захваченный воображаемой картиной вольных нравов, царивших на службе у Каролины. Я представлял себе, как этот викинг из Алжеса[94], без пиджака, развалившись на стуле и на американский манер положив ноги на стол, небрежным и нарочито любезным тоном цедит фривольные пошлости или изрыгает сентенции, воплотившие философию проходимцев и ловкачей.
Почему я так терзал себя? Очевидно, моя любовь к Каролине была достаточно эгоистической и собственнической, в чем я не хотел себе признаваться.
Вот я поднимаюсь не спеша по крутой лестнице, ведущей в контору, и медлю перед застекленной дверью, не решаясь нажать на ручку. Слышу:
— Хочешь посмотреть журнал? Тут есть кое-что забавное. Я тебе покажу.
Что там может быть? Обнаженная девичья грудь под солнечными лучами?
— Пикантная девочка, не правда ли? Но ты персик поаппетитнее!
— Не болтай глупостей! (Польщена.)
Я рывком открываю дверь и замираю на пороге, тупо уставившись на парочку, склонившуюся над журналом: они тесно прижались друг к другу, их головы соприкасаются, дыхание смешивается. Мои пальцы краснеют от напряжения, вцепившись в дверную ручку. Она видит меня, цепенеет от неожиданности, и в глазах мелькает тревога, возмущение, отчаяние…
Она вскакивает со стула, чуть ли не с яростью оттолкнув того, другого, и молча подходит ко мне: с ее дрожащих губ уже готова сорваться очередная клятва. Женщины клянутся нам в верности, и все мы клянемся, — а зачем? К че-ему столько пыла? Кому это нужно?
— Алберто, так мы поедем за город в воскресенье?
— А? Что ты сказала?.. Карла! Ну да, дорогая, поедем…
— Можно сговориться с Жинитой, с ее женихом и с родителями и поехать всем вместе. Возьмем корзину с едой. Ты согласен?
Ого! Целая куча народу!
Глаза ее блестят в полумраке, она стискивает мою руку и крепче прижимает ее к своему бедру: с ребяческим удовольствием она уже предвкушает эту нашу вылазку, пьянеет от запахов цветущих полей, лучезарности неба с перистыми облачками, распустивших хвост павлинов и звонких птичьих трелей…
— Я просто не могу выразить, как я тебя люблю, глупый! Как люблю!
Ее восторженность не находит во мне отклика, но моя рука ощущает нежность округлого бедра: теперь я знаю наверняка, что она меня не любит.
* * *Тихий уголок в тени эвкалиптов. Привычные звуки погожего дня. И словно подземные воды, с легким журчаньем проникающие в шахту, в мою сегодняшнюю память просачиваются видения былых дней. Звенели цикады. И в знойном воздухе рождалась, дрожа, сияющая поверхность мгновения.
Железнодорожная станция как будто вымерла. Сонный локомотив ждет сигнала к отправлению.
Вспоминаю, как ты боялась улыбнуться, твой страх перед жизнью. Твои руки, согревающие дружеским участием. Оранжевое солнце словно яркий мазок на призрачном небе, а совсем близко живая теплота твоего тела. День, пришпоренный страстью, ускоряет свой бег. И долго скрываемая истина вот-вот вырвется наружу.
Вдали тянутся оливковые рощи. Сердце останавливается, замирают пальцы. Вокруг нас — несчастный мир, мир, нами избранный, который нам же надо изменить.