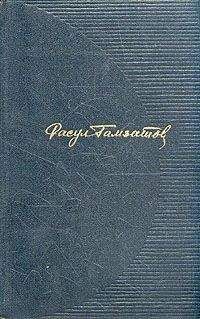Стон дикой долины - Аскаров Алибек Асылбаевич
Вчера вечером к Аужекену приехала погостить вместе с семьей его младшая дочь Канипа, которая живет сейчас в Усть-Каменогорске. Правда, ненадолго. Говорит, отпросилась с работы всего на пару дней, чтобы проведать отца с матерью.
Заметив, что старик куда-то собирается, Разия обиженно буркнула:
— Эй, контуженый, дочь твоя не каждый день из города приезжает... Не суетись, сиди-ка дома!
Аужекен не услышал, поэтому и бровью не повел... Разию это вконец разозлило, и она подняла крик:
— Лежал-лежал себе как свернувшийся кот, куда тебя теперь-то, в самую непогоду, из дому несет? Хочешь, чтобы кашель окончательно доконал?!
Только тут Аужекен обратил внимание, что жена кричит на него, и, сообразив, по какой причине, грустно сказал ей хриплым из-за пересохшего горла голосом:
— Ты, Разия, не ругай меня! Одного я прошу у Бога: чтобы не оставлял меня под присмотром невестки, а забрал к себе вперед тебя... Я уже давно к этому готов...
— Боже сохрани, сплюнь, скажи «бисмилля»!
— Сегодня во сне мне привиделись фронтовые друзья, видно, зовут к себе... Пойду-ка памятник покрашу...
Напуганная его словами, Разия больше не стала удерживать мужа.
Волоча мешок с кистью и банкой краски, Аужекен поднялся на вершину сопки и опешил, не найдя памятника на месте.
Веселившаяся внизу ватага аульных ребятишек заметила растерянно застывшего наверху, согнувшегося вопросительным знаком деда Амира и дружно бросилась к нему. Подбежав гурьбой, ребята, перебивая друг друга, засыпали старика новостями:
— Ата, памятник недавно бригадир трактором снес...
— Накинул на шею солдата аркан и одним рывком свалил его с помощью трактора...
— А потом толкнул, и солдат кубарем покатился вон в тот овраг...
Аужекен понимал трещавших наперебой пацанят через слово, тем не менее, суть случившегося уловил прекрасно. Покачал огорченно головой, вздохнул и, перебирая пальцами жидкую бороденку, погрузился в невеселые размышления.
— А когда выдернул, сказал: «Кому он нужен без руки и автомата — это же одно издевательство!»
— Бибиш-аже просила его не трогать, но бригадир не послушался...
Аужекен ласково потрепал мальчишек по чубчикам, а потом, тихонько ступая, спустился к оврагу. На его дне плашмя лежал грязный, изувеченный деревянный солдат, вырванный трактором вместе с корнями и скатившийся кубарем вниз. Кто-то вымазал ему лицо дегтем, а на груди нацарапал неприличные слова.
Домой от холма Аужекен вернулся опустошенным и удрученным, мрачно волоча все тот же мешок с кистью и банкой краски...
Услышав, что из города приехала Канипа, в дом Аужекена вечером того же дня, шаркая сапогами, приплелся Кайсар.
— Канипа, милая, будет возможность, вышли мне, пожалуйста, из города слуховой аппарат, — высказал он за чаем просьбу, с которой пришел к дочери Амира.
— Если найду, обязательно вышлю! — пообещала Канипа.
Кайсар смущенно и еле слышно спросил:
— Дать тебе денег?
— Не надо... потом отдадите.
Кайсар выставил вперед ухо, как бы давая понять, что не расслышал.
— Денег, говорю, не надо, — громче повторила Канипа.
— Пусть исполнятся все твои желания, милая! — пожелал Кайсар в явно повеселевшем настроении.
Аужекен тоже пребывал в хорошем расположении духа, довольный тем, что наведался сверстник и приобщился к их со старухой радости.
— Нынче я что-то частенько хвораю, — повернувшись к Кайсару, сказал он, когда дастархан был убран. — Чувствую, эту зиму я не переживу. Наверно, следующий день Победы вы будете праздновать уже без меня...
Глуховатый Кайсар не слышал слов Аужекена, но на всякий случай согласно кивал головой, то и дело понюхивая насыбай.
— Как бы там ни случилось, но лежит на душе камень — одна мечта, которую я лелеял в сердце, осталась неосуществленной, — продолжал откровенничать Аужекен. — Забыл я имя своего фронтового командира, замечательного человека, который погиб на войне... Гнетет меня это, а теперь так и придется с грехом на душе отойти в мир иной...
Кайсар снова одобрительно замахал головой.
Аужекен встал, подошел к стоявшему в углу сундуку, порылся, согнувшись над ним, и достал с самого дна завернутую в кусок красной материи стопку бумаг. Потом разложил на столе перед Кайсаром эти пожелтевшие от времени, истрепавшиеся по краям листы.
— Дружище, это же воинские бумаги, да? — подняв один из множества потрепанных листов, спросил Кайсар.
— Это грамоты, которыми меня отмечали на фронте, — объяснил Аужекен. — Эту, например, подписал лично Сталин... и этот похвальный лист тоже. Вот грамота, которую мне выдал командующий... эту тоже вручал он. А вот этой медалью меня наградили после боев за город Прагу...
Хотя слов Аужекена Кайсар не слышал, но, о чем говорит его сверстник, на этот раз он догадывался.
— Да ты, оказывается, настоящий герой! — искренне восхитился он. Затем бережно погладил блестящую медаль и посоветовал: — Ты не прячь бумаги в сундук — там они только зря желтеют. Ты лучше вставь их в рамки и повесь в красном углу! Пусть все видят и знают... что ты не какой-нибудь там никчемный человек...
Аужекен промолчал, собрал бумаги опять в стопку, положил сверху медаль, быстро завернул в красный лоскут и отодвинул в сторонку.
Они еще некоторое время посидели, пытаясь вести беседу, однако разговор у двух глухих стариков не очень-то клеился, потому как каждый говорил о своем.
Когда немного распогодилось, Макан, наблюдавший за ними со стороны, поддерживая гостя под руку, проводил старика Кайсара до самого дома.
Вернувшись, он с ужасом обнаружил, что отец, стоя на коленях перед печкой, одну за другой бросает в огонь грамоты и похвальные листы, на протяжении долгих лет бережно хранимые им в качестве главной ценности. Бумага сгорела почти мгновенно, на раскаленных углях поблескивала металлом лишь покореженная огнем единственная медаль Аужекена.
— Отец, ты что натворил? — всполошился Макан.
Устремившись вперед, он схватил его в охапку. Усохшая, худая грудь Аужекена судорожно сотрясалась — отец беззвучно плакал.
Макан не понимал, что произошло, он только крепко прижал отца к груди, а тот, худой, плачущий, страдающий, больше напоминал ему в это мгновение маленького ребенка, осиротевшего и бесприютного...
* * *
Прямо у истока Мятного ключа совхоз этой осенью начал строительство керолиновой мойки-купальни для скота.
Начиная со следующей весны здесь намеревались купать перед стрижкой овец, однако, судя по распространившимся в последнее время разговорам, неизвестно, будет совхоз существовать в дальнейшем или не будет, его судьба вроде бы под большим вопросом. Хотя на сооружение купальни затратили уже приличные средства, стройку пришлось свернуть, ведь ее будущее тоже представлялось теперь сомнительным.
Недостроенная мойка не только принесла сплошные убытки совхозу, но и нанесла непоправимый вред окружающей природе. Особенно пострадал родник Жангали, который сначала сильно обмелел, а потом и вовсе оболотился.
В день первого ноябрьского снегопада бывший директор Мырзахмет утром, как обычно, бегал трусцой по окрестностям аула. Неподалеку от Мятного ключа бедняга поскользнулся и скатился прямиком в вырытый под купальню котлован. Упав, он поранил до крови висок, провалился по пояс в ледяную воду, откуда с трудом выбрался, и, мокрый, грязный, трясясь от холода, еле-еле доплелся домой.
Когда Злиха увидела, в каком ужасающем виде вернулся ее старик, в панике подняла крик, но потом, успокоившись, решила отблагодарить Всевышнего за благополучное спасение мужа, зарезала барашка и ближе к вечеру пригласила на жертвенную трапезу ровесников и друзей Мырзекена, соседей и знакомых. Поинтересоваться состоянием Мырзахмета пришел даже директор совхоза Тусипбеков — как-никак, у человека, который и сам когда-то был начальником, авторитет огромный...
Все бы хорошо, однако Нургали, приглашенный вместе с другими стариками, в душе был крайне огорчен тем, что к этому богоугодному дастархану Злиха позвала и Канапию, ставшего недавно охранником и теперь расхаживавшего по аулу с надутым от важности лицом. Сердце словно чуяло — быть неприятностям. Так и случилось: за столом между стариками снова произошла стычка...