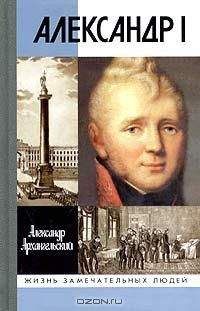Виктор Лихачев - Единственный крест
— Зачем?
— Рассказываю. Нет, ты и правда, все забыл? В наших местах село одно есть — Поршино. Стоит на высоком берегу Москвы-реки — красотища, одним словам. Там же на берегу — церковь. Перед ней кладбище, даже два — новое и старое. От старого одни холмики остались. И вот на старом кладбище какие-то черные решили особняк себе строить. С сельсоветом они быстро договорились, с местным батюшкой, судя по всему, тоже.
— Не может быть! — невольно вырвалось у Сидорина.
— Да, ты действительно головой крепко стукнулся, Васильич, — сочувственно произнес Михайлов. — Поршинский батюшка из современных. Они шустрые ребята.
— Но ведь доказательств нет?
— Как это нет? А почему когда приехал бульдозер ровнять землю, и из нее косточки человеческие полезли, из всей деревни только Михал Михалыч прибежал?
— А это кто?
— Михал Михалыч? Майор, в Афгане воевал. Там и контузило. Крепко контузило. Он-то всю кашу и заварил. Прибежал с ружьем, встал перед бульдозером: убью, говорит, гады, если дальше кости моих предков выворачивать будете.
— А они?
— Черные? Милицию вызвали. На какое-то время Михалыч мародеров задержал, но понятно же — эти своего добьются. Тем более, все бумаги у них в порядке. А я в Поршино иной раз к теще наведываюсь. К Михалычу захожу. Вот он мне все и рассказал. Решили мы с ним, что надо куда-то писать. А писари мы с ним еще те, да и куда лучше писать не знаем.
— А тут я у Пушкина…
— Точно. Ты мне понравился тогда: чего, говоришь, зря время тратим, поехали в Поршино. Тебя Михалыч и на кладбище водил, и в храм. Правда, батюшки не было, но тебя тогда одна местная старушонка впечатлила.
— Чем же, интересно?
— Рассказала о чудесах, которые стали происходить в церкви после того случая. Сначала на Крещение, когда из шланга воду в специальный чан наливали, чтобы святить потом, вода пошла кровавая.
— Серьезно?
— Вот те крест, — и Санек перекрестился. — Сколько людей это видело! Все же воду ждали, а она красная. Ее слили, бак промыли, а вода опять такая же. Народ повернулся — и в другой храм пошел. Только ушли люди, вода нормальная потекла. А еще через неделю икона Николая Угодника заплакала.
— Может, замироточила?
— В том-то и дело, что заплакала. Из глаз, будто серебряные, слезинки потекли, и застыли.
— Н-да.
— А статью ты написал.
— Как газета называется, не помнишь?
— У Михалыча вырезка есть. Статью потом наша районка перепечатала. Классно ты написал. Пушкина цитировал, про Михалыча написал, что он сейчас в Поршино за Россию ответчик…
— А что я из Пушкина взял, не помнишь?
— Эх, я на стихи не мастак. Прочитал — забыл… Там про пепелище что-то было, гробы.
— Понятно.
— Вспомнил?
— Увы, только стихи.
И Сидорин продекламировал:
Два чувства равно близки нам,
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу
Любовь к отеческим гробам.
— А мы сейчас только деньги любим, — неожиданно подал голос таксист.
— Друг, как тебя зовут? — спросил Михайлов.
— Степаном.
— Ты, Степа, лучше крепче держись за баранку и смотри вперед, а мнение твое меня сейчас меньше всего интересует.
— Понял.
— Вот и хорошо.
— Не надо ругаться, — примирительно сказал Сидорин, — ты, Александр, лучше еще что-нибудь про меня расскажи.
— В каком смысле?
— Я о себе что-нибудь говорил?
— Понял, дай вспомнить. Говорил, что у какого-то лесника живешь. Ты его все Петровичем называл.
— А где этот лесник живет — не говорил?
— Вроде нет. Хотя… Нет, не помню.
— Значит, Петрович?
— Петрович — это точно. Ты еще фразу сказал, до сих пор ее помню: мол, Петрович научил меня зверей любить, найти бы того, кто научит любить людей.
— Так и сказал?
— Слово в слово.
— Ну и как, нашли такого человека? — спросил Сидорина Степан, не оборачивая головы.
— Слушай, мужик, тебе же сказали: крепче за баранку держись шофер.
— Не кипятись, брат, — мягко остановил Александра Асинкрит. — Вопрос вполне законный, да и кто знает, может человеку поговорить необходимо: нормальные люди спать должны, а он нас в Москву везет.
— Деньги любит, вот потому и везет, — буркнул Михайлов.
— Эх, сказал бы я тебе, — таксист впервые повернул голову и бросил на сидоринского спутника красноречивый взгляд, — много ты о моей жизни знаешь.
— А я тебе не мать Тереза, мне плакаться не надо, — не сдавался Михайлов. — Самому есть что рассказать.
— Молодые люди, предлагаю пообщаться на нейтральные темы, — прекратил перепалку Асинкрит. — Начинай, брат, — и он посмотрел на Александра.
— Я? — удивился тот. — Моя главная тема — на вокзал раньше поезда попасть.
— Представляешь, и мне надо… очень-очень рано. И не в Москву, а еще дальше.
— Куда, если не секрет? — поинтересовался таксист.
— В Т., где я имею счастье в данный момент жить… Ладно, тогда еще одно предложение. Одна моя знакомая девочка в такие моменты, когда душа не на месте, а моя точно сейчас не здесь, предлагает в города играть. Степан, начинай.
— Желание клиента закон. Житомир.
— Почему Житомир, Степан? — спросил его Сидорин.
— А я родом оттуда.
— Теперь понимаю, чем ты мне не глянулся, — сверкнул глазами Михайлов. — Западенция. Бендера.
— Сам ты Бендера! — не на шутку обиделся таксист. — Какая западенция — мои все из-под Малина, это всего километров восемьдесят от Киева.
— А у вас сейчас, что Киев, что западенция — все одно и то же.
— Слушайте, петухи, вы мне надоели. Твоя очередь, Александр.
— Только из уважения к тебе, Васильич. На какую букву надо?
— На «р».
— А на «р» есть города?
Таксист хмыкнул.
— Прошу без комментариев! «Р», «р»… О, вспомнил, Ржев!
— Есть ассоциации? — спросил Сидорин.
— Что есть?
— Ну, вспомнил ты его почему?
— Там у меня столько друзей! Кстати, во Ржеве все друг с другом спорят: нужно ли немцам, в смысле фашистам, на кладбище памятники воздвигать, или нет.
— Мне кажется, нужно. Их же насильно к нам погнали. В армию забрили — и погнали. Кто же их спрашивал? Пусть хоть похоронят по-человечески, — произнес таксист.
— Резон есть, — подумав, ответил Михайлов. — А ты как думаешь, Васильич?
Сидорин сам предложил «пообщаться», однако сейчас понял, что думает только о своих Лизах. Но и попутчиков обижать не хотелось. И вот здесь, в ночном такси, он впервые прибегнул к приему, которым позже станет пользоваться очень часто. Пришли на выручку стихи — не зря же Асинкрит так их любил. Они позволили Сидорину все объяснить, в сущности, ничего не объясняя и не тратя лишних слов.