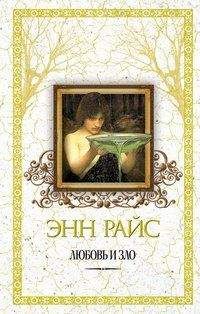Мордехай Рихлер - Версия Барни
— Как здорово, что я наконец вижу вас, — сказал я. — Выпьете?
— А вы?
— Да так… разве что «перье». Хотя повод есть, как вы считаете? Как насчет бутылки шампанского?
— Ну, даже не знаю…
Я подозвал официанта.
— Принесите нам, пожалуйста, бутылку «дом периньон».
— Но вы же только что отмени…
— Просто принесите, и все, будьте добры.
Прикуривая одну сигарету от другой, я пытался вспомнить хоть одно из отрепетированных bon mots[312], но все, с чем я сумел выступить, было:
— Жарко сегодня, не правда ли?
— По-моему, нет.
— Да и по-моему тоже.
— Да?
— АвысмотрелиГендерсонкорольдождя?
— Простите?
— Гендерсонкороль… в смысле «Психоз»!
— Нет еще.
— Я думаю, сцена под душем… Но что думаете о ней вы?
— Я думаю, надо сперва посмотреть.
— А, да, конечно. Естественно. Можно бы и сегодня вечером, если вы…
— Но вы-то наверняка уже смотрели.
— Ах да. Правильно. Я забыл. «Черт! Он что, в Монреаль, что ли, поехал за этой несчастной бутылкой шампанского?» Как по-вашему, — спросил я, уже начиная плавать в поту, — правильно сделал Бен-Гурион, что согласился встретиться в Нью-Йорке с Эйзенхауэром?
— Вы, наверное, хотели сказать — с Аденауэром?
— Господи, ну конечно!
— А что — вы пригласили меня на интервью? — спросила она. И вот они, долгожданные ямочки на щеках.
Я готов был тут же на месте умереть и отправиться в рай. Не смей опускать взгляд на ее грудь. Держи его на уровне глаз.
— А, вот же он!
— В рум-сервисе спрашивают, остается ли в силе ваш заказ на вторую бутылку, ту, что вы просили принести в ваш…
— Вы не могли бы просто налить, и все?
Мы сдвинули бокалы.
— Передать не могу, до чего я рад, что вы сегодня все-таки пришли, — сказал я.
— Ну, вам ведь тоже, видимо, непросто было выкроить для меня время в плотном графике деловых встреч.
— Да я же только ради вас и приехал!
— А мне казалось, вы говорили…
— А, конечно. Бизнес. Да, да, я тут по делу.
— Вы что, пьяны, Барни?
— Разумеется, нет. Наверное, надо что-нибудь заказать. На всякую комплексную удешевленку не смотрите. Берите, что хочется. Что же это они кондиционер здесь не поставили! — сказал я, расслабляя узел галстука.
— Но тут совсем не жарко.
— Да. То есть нет, не жарко.
На первое она заказала гороховый суп, а я — непонятно зачем — суп из лобстера, блюдо, которое ненавижу. Помещение бара покачивалось и колебалось, а я все силился сказать что-нибудь умное, какой-нибудь афоризм, переплюнуть самого Оскара Уайльда; думал, думал и говорю:
— Вам нравится жить в Торонто?
— Мне нравится моя работа.
Я досчитал до десяти, а потом говорю:
— Я развожусь.
— Ах, я вам сочувствую.
— Намсейчаснеобязательновэтовдаваться, ноэтозначит, чтоуваснебудетпричинуклонятьсяотвстречсомной, потомучтояужебольшенебудуженатым.
— Вы говорите так быстро, что я не уверена, правильно ли я вас понимаю.
— Я говорю: скоро я больше не буду женатым.
— Ну, очевидно, раз вы разводитесь. Но я надеюсь, вы делаете это не из-за меня?
— Что же еще-то я могу сделать? Я люблю вас. Отчаянно.
— Барни, вы же меня не знаете.
Тут — надо же такому случиться! — над нашим столом склонился пышущий гневом Янкель Шнейдер, которого я не видел с тех пор, как мы были десятилетними мальчишками и учились в начальной школе. Не то чтобы совсем уж призрак Банко[313], но что-то вроде.
— А, вот тот мерзавец, который мне в детстве не давал проходу, доводил до белого каления, все передразнивал, как я заикаюсь, — раздалось у меня над ухом.
— Не понимаю, о чем вы?
— А вы, значит, имеете несчастье быть его женой?
— Пока нет, — уточнил я.
— Что такое? — удивилась Мириам.
— Может, ты хотя бы к ней с этим лезть не будешь?
— Он смеялся над тем, как я заикаюсь, и я ночами все волосы из головы повыдергал, а матери приходилось меня буквально за шкирку, пинками гнать в школу. Зачем ты это делал?
— Мириам, я не делал этого.
— Какое тебе в этом было удовольствие?
— Я даже не уверен, черт тебя дери, что помню, кто ты такой!
— Годами я мечтал о том, как я буду за рулем, а ты — на переходе через улицу, и я тебя сшибу и раздавлю. Понадобилось восемь лет психоанализа, чтобы я решил, что ты этого не стоишь. Ты пакость, Барни, — сказал он, затянулся последний раз сигаретой, после чего бросил ее мне в раковый суп и ушел.
— Господи Иисусе, — сказал я.
— Я думала, вы сейчас его ударите.
— Ну не при вас же, Мириам!
— Мне говорили, что у вас гнусный характер, и, когда вы слишком много выпьете, вот как сейчас, например (что вас не слишком-то красит), вы начинаете напрашиваться на драку.
— Макайвер?
— Я этого не сказала.
— Что-то мне нехорошо. Сейчас стошнит.
— До туалета добраться сумеете?
— Какой стыд.
— Вы можете —?..
— Мне надо лечь.
Она помогла мне добраться до номера, где я немедленно пал на колени, рыгая в унитаз и звучно пердя. Я желал, чтобы меня закопали заживо. Утопили и четвертовали. Разорвали пополам лошадьми. Что угодно, только не это. Она намочила полотенце, вытерла мне лицо и довела в конце концов до кровати.
— Как это унизительно!
— Шшш, — сказала она.
— Вы возненавидите меня и больше не захотите видеть.
— Ах, помолчите, — сказала она, вновь промокнув мне лоб влажным полотенцем, потом заставила выпить стакан воды, поддерживая мне затылок прохладной ладонью. Я решил больше не мыть голову. Никогда. Вновь откинувшись, я закрыл глаза в надежде, что комната перестанет вращаться.
— Я полежу минут пять и буду в порядке. Не уходите, пожалуйста.
— Попробуйте заснуть.
— Я люблю вас.
— Да. Конечно.
— Мы поженимся, и у нас будет десять детей, — сказал я.
Когда я проснулся — примерно через пару часов, — она сидела в кресле, скрестив свои длинные ноги, и читала «Кролик, беги». Сразу я голос подавать не стал, а воспользовался тем, что она вся ушла в чтение, чтобы как следует насладиться зрелищем такой красоты рядом с собой. Слезы текли по моим щекам. Сердце сжималось. Если время сейчас остановится навсегда, я не стану жаловаться. Наконец я сказал:
— Я знаю, вы больше не захотите меня видеть. И я не виню вас.
— Я собираюсь заказать вам бутерброд и кофе, — сказала она. — И, если вы не возражаете, бутерброд с тунцом себе. Есть хочется.
— Наверное, от меня жутко воняет. Вы не уйдете, если я по-быстрому приму душ?
— Я смотрю, вы меня считаете легко предсказуемой.
— Как вы можете такое говорить?
— Вы ведь ожидали, что я приду к вам в номер.
— Конечно нет.
— Тогда для кого здесь шампанское и розы?
— Где?
Она показала.
— О-о.
— Вот вам и о-о.
— Сегодня я вообще не знаю, что делаю. Я как сам не свой. Полный распад. Сейчас позвоню в рум-сервис и скажу, чтобы унесли.
— Нет, вы этого не сделаете.
— Не сделаю.
— Ну, так и о чем мы будем говорить? О фильме «Психоз» или о встрече Бен-Гуриона с Аденауэром?
— Мириам, я не могу вам лгать. Ни сейчас, ни вообще. Янкель говорил правду.
— Какой Янкель?
— Тот человек, что подошел к нашему столику. Я заступал ему дорогу на игровую площадку и говорил: «Т-т-ты в к-к-к-ровать п-п-п-писаешь, п-п-пиздюк?» А когда он вставал в ужасе от необходимости отвечать у доски перед классом, я принимался хихикать, так что ему уже ни слова было не вымолвить, и он срывался на плач. «М-м-м-мол-лодец, Я-я-я-янкель!» — потешался я. Зачем я только делал это?
— Но неужто же вы думаете, что я могу на это ответить?
— Ах, Мириам, если бы вы только знали, как я на вас рассчитываю!
И тут я вдруг почувствовал — с болью и радостью одновременно, — как по моей душе пошел будто весенний ледоход. Я нес какую-то околесицу, что-то бормотал (боюсь, что совсем бессвязно), путая злоключения и обиды детства с историями про Париж. От рассказа о том, как Бука покупал героин, я возвращался к жалобам на мать, на то, что она была ко мне равнодушна. Я рассказал Мириам про Йосселя Пински, про то, как он пережил Освенцим, а теперь коротает дни в баре на улице Трумпельдора[314] в Тель-Авиве, занимаясь всякого рода гешефтами. Однажды я с его подачи уже торговал крадеными египетскими древностями и теперь посчитал, что она должна знать и об этом. Как и о том, что я занимаюсь «степом». От байки про то, как Иззи Панофски «бросили на мораль», я перескочил к тому вечеру, когда Макайвер читал свою прозу в магазине Джорджа Уитмена, а потом почему-то плавно перешел к приключениям Хайми Минцбаума. Рассказал про pneumatique, которая доставила мне письмо слишком поздно, в результате чего Клара так рано и бессмысленно ушла и снится мне теперь ночами, гниющая в гробу.