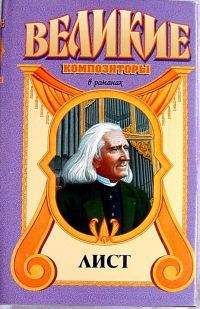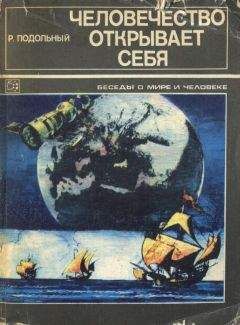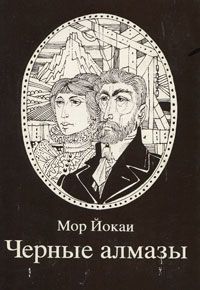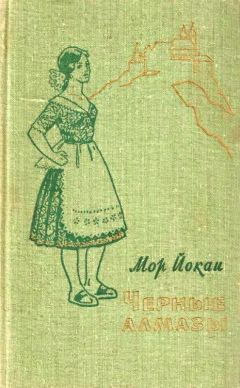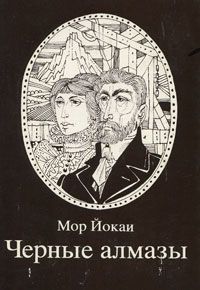Дёрдь Конрад - Соучастник
Железные ножки нар и стола намертво вмазаны в бетонный пол, электрическая лампочка, защищенная проволочной сеткой, включается и выключается из коридора. У меня есть все, что нужно, и нет ничего, что не нужно; на ужин достаточно нескольких ложек риса. Доброжелательный белокурый надзиратель щелкает зажигалкой, давая мне огоньку, и уходит тихо, как вышколенный камердинер.
39Это угрюмое кирпичное здание — одно из тех мест, которых город стыдится. Отсюда выезжают машины со стражами порядка; отсюда, подобно сороконожкам, выползают доносчики с липкими взглядами. Здание это — темное средоточие антисознания, нервный центр ужаса; оно хочет знать, что мы о нем думаем, и всех нас пытается подключить к общему пульту. Оно — черная базилика отречения от человеческого бытия; маленький алтарь его есть в любой голове, где серебристым светом горит лампада страха. Идя по улице, ты не видишь ничего, что не было бы хоть как-то связано с ним. Это благодаря ему шелушится и осыпается штукатурка со стен, благодаря ему дряхлеют души; оно насаждает в нас, состарившихся младенцах, мелкие, гнусные задние мысли. Это здание и царящая вокруг глупость взаимосвязаны. К его запретам каждый сам добавляет воспоминания о первом обжигающе ледяном световом биче или о коварной, якобы материнской маске. Из него тянутся в город плети буйной ползучей растительности, которая расцветает в безмолвии наших душ, густой паутиной затягивая нам рты. Оно постоянно нашептывает нам свои проверенные советы. Не делай добро; не спрашивай, почему. Не протягивай руку чужим, предавай друзей, не говори правды сыну своему, но никогда не сомневайся в правоте своего шефа. Если ты не пишешь на стенах подстрекательские слова, ты все равно не безвинен; знай, за тобой все равно много чего отыщется, и в один прекрасный день мы предъявим тебе счет. Вопрос вопросов: послушен ты нам или не очень? Если глаза твои видят такое, что высказывать неразумно, — закрой их. Избегай любви; улыбка — плохой советчик, она отвращает тебя от нас и подталкивает к пустому геройству. Наплюй на Бога: навредить тебе он все равно не способен, наказывать можем лишь мы. Подвергай цензуре даже гримасы свои: если ты пристально посмотришь на это здание, лицо твое надолго окаменеет. Если у тебя не получается уважать себя, отдай свою совесть сюда, под присмотр государства. Запертые на все замки подданные косятся друг на друга: а ты случаем не тамошний, не из того дома? Тот, кто не тамошний, смотрит за тамошним, тамошний — за нетамошним; так что все как бы тамошние.
В негостеприимной этой гостинице ты расплачивался за допущенные тобою вольности, — особенно когда не брал за труд держать в голове, что уж здесь-то для тебя всегда найдется местечко. Здесь ты имеешь возможность освежить знание о жестком постоянстве данной государственной формы. С потрясающей простотой тебе дают понять, что преступником тебя делает не то, что ты совершил, а то, что тебя привезли сюда. Ты становишься туг ребенком, которому составляют режим дня, определяют позу, в какой он должен сидеть и стоять, которого беспрестанно одергивают, если он что-то сделает не так. В недрах этого здания, охраняемого вооруженными людьми, ты остаешься совсем один — и должен сам отстаивать то, что в кругу друзей считал правильным и хорошим. Здесь ты чувствуешь себя дома лишь в антимире собственного сознания; но тебя окружают со всех сторон не только ружейные дула: тебя окружают еще и твои же кошмарные сны. Здесь не у кого просить совета, ибо каждый готов тебя обмануть; здесь и сокамерник — стукач, а тот, с кем ты можешь обменяться словом, — твой противник. Допрашивающие тебя следователи могут пользоваться приемами из арсенала, которому не меньше двух тысяч лет, ты же или отвечаешь на вопросы, или лжешь, или не говоришь ни слова. Здесь ты имеешь возможность проверить, велики ли у тебя резервы, есть ли у тебя нержавеющий внутренний закон, которому не страшен сырой дух этого здания. Здесь ты почувствуешь, что убогое поле деятельности, над которым ты всегда издевался, на самом деле — царство свободы. Но если твое внимание отвлечется на что-то, если ты не сумеешь заглушить сумасшедшее желание оказаться на воле, то ты утратишь тайное благословение, без которого и жить дальше не стоит, и, когда придет время, вместо тебя из тюрьмы выйдет безвольный калека.
Потом, когда пробегут, здесь ли, в других ли камерах, годы, лицо твое станет подобно пепельнице, от улыбки останутся лишь недожеванные лоскутья. В черепе у тебя, как в парилке, сидят грубо вырубленные, неподвижные женщины. Ты будешь путать времена года и заблудишься в закоулках своей камеры, приняв ее за родительский дом: черт возьми, в каком же углу любил сидеть с сигарой дедушка? Собачий лай в саду, матушка на четвереньках, в белой рубахе играет с двумя лохматыми черными кобелями. Твой отец — комендант тюрьмы; шитые на заказ сапоги, баранья шапка, запах конюшни и сирени. «Это что еще тут за бардак?» — ревет он и пинком опрокидывает твою полку с игрушками. Потом ты скачешь верхом у него на колене, он смотрит на свои часы с золотой цепочкой: «Чего ты здесь киснешь, айда со мной, устроим загул, есть тут недалеко одно заведение, все в зеркалах, но в этой одежонке, — он теребит мой ворот, — туда нельзя. Я еще загляну. А ты переоденься пока». В галерее твоих любовей несколько сот мертвых полотен, да и те — не картины, а лишь каталог. Когда твои глаза открыты, сознание твое столь же пусто, как эта одиночная камера. Но вот ты закрыл их — и тут же все оживает: сначала шевельнулся безымянный палец, потом проступает рисунок ладони в форме звезды. Утро, ты пьешь, глоток за глотком, кофе над озером, на террасе. Шея ее тоньше, чем твой локоть, правая и левая щеки — две смеющиеся друг над другом близняшки, обеими ты готов любоваться до вечера. Но чаще всего ты кокетничаешь с костлявыми, как селедка, жеманными стервами. Засушливые часы тишины, взлетающая и опадающая болтовня, железобетонное равнодушие. Ты недоверчиво, как личного врага, разглядываешь свой, что ни день, удлиняющийся большой палец. Ты тревожно расхаживаешь по протянувшейся бог знает в какие дали камере, тебе хочется забиться куда-нибудь, где не так просторно. Ты встаешь в угол и терпеливо ждешь, когда набросится на тебя одичавшая команда надзирателей. Но они всего лишь принесли обед; хорошо, съедим. В окно влетает муха, но и она вылетает. В черепе у тебя ширится, ширится, вызывая нестерпимую боль, какой-то гулкий пустой сосуд.
Прощание
Я нажимаю кнопку звонка у входной двери; будь ты дома, я услышал бы твои торопливые шаги. Тишина; я вынимаю ключ, дверь легко открывается; запах нашей квартиры, который не спутать ни с чем. Белые стены, на желтом паркете нет ковра, несколько старых предметов мебели; здесь и сегодня все носит печать твоей суверенной личности. Ты много сил отдала, чтобы отстоять это право; когда я решил устроить тебе сюрприз и сам купил кресло, ты расплакалась: вещь прекрасная, но как я не могу понять? Все было напрасно; если здесь что-то менялось, это был сигнал для меня. «Ты живешь во мне, — сказала ты однажды, — и это — лучшее жилье в городе. Отсюда тебя вынесут только ногами вперед». Я вхожу в комнату, сажусь; шкаф-ризница, в нем — твои платья. По утрам — размышления вслух, какую из своих масок тебе сегодня надеть: старомодной дамы, модели из парижского журнала, студентки, чудачки из мира андерграунда? Разлезающаяся полотняная юбка и дорогая шелковая блузка, потрепанная шляпка и мягкие итальянские туфли, что-ни-будь совсем дешевое и что-нибудь очень изысканное: пускай они преломляют эффект друг друга. Ты стоишь перед ящиком: какую выбрать цепочку; я показываю одну, ты берешь другую, чтобы понравиться мне. На стене — плечистый мужчина в рубашке без пиджака, белокурые волосы падают на глаза, волос у него больше, морщин — меньше, чем у меня, большие пальцы рук сунуты под ремень. Ты стоишь против него в обманчиво-сонной позе дзюдо. Как-то вечером ты сказала: «Я записалась на курсы дзюдо». «Зачем?» «Чтобы тебя поколотить». «Зачем тебе меня колотить?» «Чтобы ты меня боялся». «Зачем мне тебя бояться?» «Чтобы не смел бросить». Ты стоишь в своей комнате: «Отяжелел ты у меня, серый какой-то, морщинистый, ты на семнадцать лет меня старше. Не забывай: на скотском рынке за меня дали бы больше». Сейчас я выгляжу лучше, чем прежде, работа в саду полезна для кожи, вот только у сумасшедшей скотины цена даже на скотском рынке невысока. Моя комната нетронута, но в ванной — чужой крем для бритья, две влажные зубные щетки, два влажных полотенца. На балконе — ящик с цветами, мраморный столик, камышовое кресло; я опускаю полосатый складной ставень, внизу — цирковая арена площади, происходящее здесь, внутри — мудрее, теплее. Конечно, все мы живем в квартирах, чаще всего — вместе с другими людьми. Каждый находит кого-нибудь, чтобы о нем заботиться; шанс этот дается всем, но получается как-то не очень: ни времени, ни охоты.