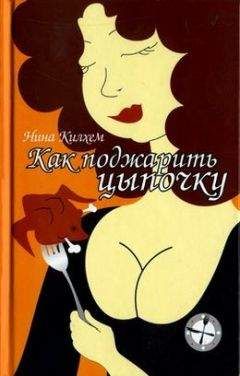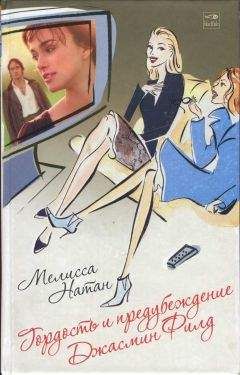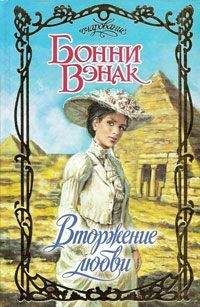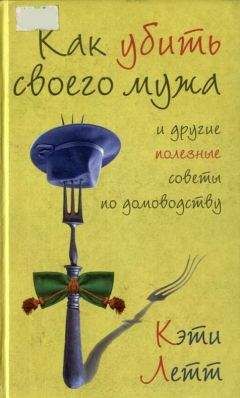Филипп Клодель - Чем пахнет жизнь
Спящий ребенок
Enfant qui dort
Ничто не скажет нам лучше, кто мы есть и кем были, чем запах кожи погруженного в сон ребенка, который лежит, приоткрыв ротик, в своей кроватке, без страха, без боязни, не вздрогнет, потому что знает, что мы здесь, рядом и готовы разогнать потемки, рассеять их, уничтожить, если понадобится. Помню: моя дочь еще совсем маленькая, и я, бывает, прихожу в детскую, потому что мне чудится ее стон или, может быть, плач, и мысль, что она может страдать, пусть даже во сне, так мне невыносима, что я, пробудившись от хрупкого отцовского сна, иду к ней. Она спит всегда на спине, согнутые ручки подняты по обе стороны лица, ладошки раскрыты, пальчики растопырены, щечки такие круглые, а длинные ресницы опущены, точно тончайшие ставенки над прекрасными, невидимыми сейчас глазами. Я долго сижу рядом и смотрю на нее, как смотрят на чудо, не вполне в него веря, не веря до конца, что оно реально и связано с нами узами, которые ничто никогда не разорвет, даже смерть, хоть она и многое может. В полутьме я вижу, как тихонько вздымается и опадает ее грудка, опадает и снова вздымается, и глаз не могу оторвать от этого движения, которое означает жизнь – со всеми ее надеждами и всей ее хрупкостью. Я прикасаюсь к ее рукам. Веду пальцем по щекам, по лбу, по тонким черным волосикам, теплым и шелковистым, наклонившись, бесшумно целую в шейку. Я словно уже почти сам – ребенок, который спит, голенький, прижавшись к матери, тоже голой, на прекрасной картине Густава Климта «Три возраста женщины», запечатлевшей момент обыденной и тесной близости, высокой и животворной человечности, запечатлевшей и сладкую теплоту вспотевшей кожи, и безмятежность самого крепкого сна, того сна, в котором ничего не может с нами случиться. Это – как ослепительное падение в самый естественный из запахов, запах жизни с ее лепетом, когда вся она – мягкость, вскормленная ласками и молоком, улыбками и песенками, руками, что берегут, успокаивают и защищают. Запах начала времен, нежной плоти, кремов и талька. Запах раннего детства, бережно хранимого, кроткого, лепечущего, мирного и безмятежного, которое, увы, покидает нас слишком быстро – когда мы выходим на дорогу, встаем на ноги, начинаем свой самостоятельный путь, и вскоре ничего больше не остается от нас прежних, маленьких, слабеньких, доверчиво спящих в руках и улыбках тех, кто произвел нас на свет.
Хлев
Étable
Мы живем в тесной близости с животными: кролики, куры, утки, кошки, собаки, гуси, а то и индюки – в садах, во дворах, в кухнях, где подрастают в тепле цыплята и утята. А подальше, но все равно так близко – коровы, свиньи, лошади, овечки и ягнята, козы, ослы, мулы и лошаки, быки и волы, в полях и на фермах. Фермы. Совсем рядом с нами ферма Пуле, на улице Матье. И другие, не намного дальше, Гийомонов, Русселей, Деанов, прямо в городке, в его пределах, внутри него. На улицах натыкаешься порой на коровьи лепешки и конский навоз, их быстро прибирают, чтобы положить под гортензии и розовые кусты. Проходят стада. Зрелище из незапамятных времен. В окрестных деревнях, Соммервилле, Фленвале, Боземоне, Кревике, Макси, Арокуре, животным вольготно. Растут у дорог навозные кучи. Так измеряется достаток – по объему отходов. Смешанный запах соломы и экскрементов говорит о зажиточности и богатстве. Люди и животные вместе. Кормятся. Знаются. Молоко, которое мы пьем, рождается из худшего, что можно видеть, обонять, осязать. Двери хлева для меня подобны церковным вратам: за ними тайна и тишина, едва нарушаемая вздохами и неспешными движениями, теплым дыханием, поэзией ладана – там, сытого пережевывания – здесь. Благоговение. Таинство причастия свершается в полутьме. Пахнет яслями, конечно же, кисловатый душок новорожденного смягчается дружелюбным дыханием осла и вола. В глубине хлева видны лишь спины животных, их мерно покачивающиеся хвосты, длинные хребты с выступающими позвонками, тяжелые бока – дремлющие лодки. Иногда они шевелятся, выпуская наружу теплый дух, пахнущий утробой, кислым молоком, коровьей лепешкой и пережеванным сеном, славный перебродивший запах жизни и усталости, отдыха и дойки, шерсти, навоза и слюны. Тут же, конечно, и мухи, бесстыдные, раздражающие, они жужжат вокруг скотины, привлеченные ее испарениями. Потом вдруг сядут на потолок и замрут. Забежит, мяукнув, кошка, вылакает розовым язычком лужицу молока на земляном полу. Этой сцене и этим запахам тысячи лет, а мы созерцаем ее и вдыхаем их. Как будто человечество вдруг окаменело. Закрыв глаза, мы становимся древним народом Месопотамии, Нила, Аттики.
Эфир
Éther
Им убивают котят и усыпляют детей. В легкости его имени таится неуловимый обман, его небесная поэзия смертоносна. Мне пять лет. Я держусь за мамину руку, и мы идем по коридорам Центральной больницы Нанси. Навстречу – медсестры и монашенки в чепцах. Там и сям за открытой дверью палаты видны лежащие фигуры, торчат под неестественным углом перебинтованные руки и ноги. Хрипы. Пахнет лекарствами и мокнущей кожей. Женщина, стоя на коленях, моет тряпкой бежевые и черные плиты. Я увижу ее много лет спустя на картине Сезанна. Мы огибаем ее, как будто играем в классики. Нам указывают палату. Две кровати рядом. Я буду спать с мамой. Счастье. Ближе к вечеру приходят люди в белых халатах, один, самый большой и самый старый, с лицом, как груша – ну прямо Людовик XIV среди придворных, – щупает мне горло, велит открыть рот, высунуть язык, разговаривает мудреными словами со своими подданными, которые стоят вокруг него, глядя ему в лицо снизу вверх. Я сижу на краю кровати, болтаю ногами. Похлопав меня по щеке, он говорит, что я ничего не почувствую. Утром мне не дают завтрака. Забирают меня у мамы. Кладут на кровать на колесиках, и я еду по длинным коридорам, глядя в потолок. Вдруг становится холодно, круглые лампы беспощадно слепят, точно множество арктических солнц, люди в масках и колпаках, этакие белые гангстеры, суетятся у замысловатых аппаратов и начищают стальные инструменты. Я узнаю голос Людовика XIV, который снова говорит мне, что я ничего не почувствую и что я уже большой мальчик. Дважды ложь. Приближается еще один лжец, держа в руках металлическую маску. Он говорит, что сейчас я спокойно усну. А я не хочу спать. Откуда ни возьмись еще один предатель крепко прижимает меня к кровати. Металлическая маска накрывает мое лицо, отрезая меня от мира. Тошнотворный запах резины заполняет рот и ноздри, и сразу следом – пары эфира, я и не знал, что такое бывает, яростно химическое, ледяное! Я стал котенком. Меня хотят усыпить. Насовсем. Я вырываюсь. Зову маму. Мой голос, полный слез, бьется о стенки маски. Отвращение, огромная пустота и тьма. С тех пор я знаю, что эфиром пахнет смерть. И не перестаю готовиться к бесконечному апноэ.
Костер
Feu de camp
Нас разделили на отряды, мы носим форму и каждое утро поднимаем флаги. Слишком широкие шорты, небесно-голубая рубашка, завязанный узлом галстук, свой для каждого возраста. Мы спим в старых бараках, когда-то в них жили несколько лет беженцы из деревни Мартенкур, чьи дома разрушили немцы. По утрам у нас кружки по интересам – лепка, роспись по эмали, плетение, выжигание, моделирование, резьба, макраме. За обедом мы едим промасленную жареную картошку, переваренные макароны, жесткие стейки, склизкую фасоль. Сон после обеда обязателен. Мы притворяемся, будто спим. В коридорах шепчутся вожатые. Потом – прогулка, цепочкой или парами, на голове – завязанный узлами на углах носовой платок, на поясе жестяная фляжка. Идем долго. Перекусываем на обочине дороги среди маков и васильков, на полянке, у ручья или в тени лип на деревенской площади. Едим хлеб с вареньем, фруктовое пюре, сырки «Веселая корова», плиточки твердого, шершавого на вкус шоколада. Отгоняя ос, пьем мятный сироп и лакричную водичку. Дважды в неделю устраивается большая игра. Команды называются именами животных – Бобры, Выдры, Медведи, Волки, Лисицы. Мы ищем следы в лесу Сен-Жан у Эшского брода, находим флажки, разгадываем загадки. Вечерами собираемся все вместе – сумерничаем. Один вожатый играет на гитаре, другой на губной гармонике. Мы поем «Ах, бутылочка, хороша бутылочка», «Сантиано», «Дай-ка хлебнуть ему рому». Иногда разыгрываем пьески, в которых высмеиваем директора или медсестру. Кто-то паясничает, кто-то показывает фокусы, кто-то рассказывает страшилки. Спев последнюю песню, «Свежий ветер, утренний ветер», чтобы успокоиться, мы молча расходимся по дортуарам. Гасят свет. Все в постель. Ночь. Я могу, наконец, поплакать. Да, я ездил в лагерь каждое лето на целый месяц, с четырех до тринадцати лет, и всегда мне там было плохо, как будет плохо и потом, в первые годы в интернате. Время совсем не идет. Какая-то несокрушимая свинцовая плита. Я так скучаю по маме. Я не понимаю, зачем она отсылает меня так далеко от себя. Я до сих пор этого не понял, а у нее спросить не решился. Беда, наказание, но есть здесь все-таки одно большое чудо – костер. Мы готовим его всю смену. Он растет, похожий на стенные часы без стрелок. В ход идет все – ненужные доски, сушняк, старые пни, деревяшки, хворост, собранный в лесу, гнилые балки, отданные крестьянами, сломанные ящики. Сооружение день за днем вздымается к небу, становится Вавилонской башней из чего попало, и мы лихорадочно следим за его ростом. Когда наступает долгожданный вечер, мы одновременно возбуждены и серьезны. Ужинаем молча, потом – это почти церемониал – собираемся по отрядам и размещаемся вокруг костра, усаживаясь по-турецки на траву, которую сгущающиеся сумерки уже «усыпали свежим жемчугом», как мог бы написать Андре Арделле[10]. Мы ждем, чтобы ни один закатный отсвет на западе не нарушил момента, и с наступлением темноты вожатый зажигает факел из просмоленной тряпки. Когда тот занимается огненными языками, он бросает его в костер, и огромный конус загорается весь, от основания до вершины, вздымая рыжее и лимонно-желтое пламя к темному небу. Я готов часами сидеть у этого огня: пусть он греет меня, окутывает, пропитывает, потрескивая, мою кожу, одежду, волосы своим запахом горящего дерева. Я глаз не могу оторвать от падающих поленьев, рождающих тучи искр, красных, золотых, светло-желтых, и пляшущих языков, вырывающихся огненным снопом – такие я увижу много позже на картинах Монсу Дезидерио[11]. И мне кажется, что запах этого огромного костра, с его яростным жаром и раскаленным нутром, вселяет в меня восторг первобытных людей, которым он давал свет и добычу, которые варили на нем пищу, грелись, закаляли свое оружие. Я вдруг смутно ощущаю, под звездами, к которым улетают пламенеющими мухами красные искры, свою принадлежность к очень-очень древнему сообществу. Огонь извивается и пляшет для меня. Мое тело сохранит дикий запах дыма, раскаленных углей и горячей золы, и я буду вдыхать его долго-долго, как принюхивается зверь в надежде на новую жертву.