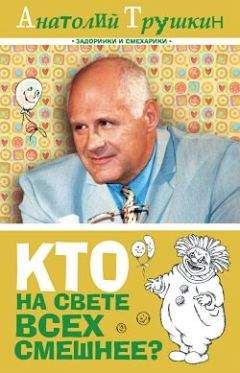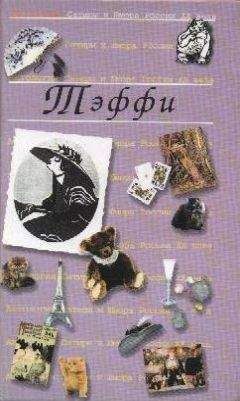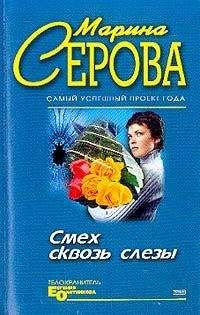Владимир Колыхалов - Кудринская хроника
Устали, лежим, смотрим в тусклое небо. И все о дожде мечтаем, так соскучились, будто по брату родному, которого в гости давно уже ждешь, а он все обещает и не идет. Но ни облачка не видать нигде. Блеклая синь повсюду…
Вспомнилась мне почему-то минувшая зимушка, многоснежная, мягкая, встала перед глазами бесконечно знакомая дальневосточная станция Кундур, куда я наезжал с друзьями частенько к Петру Фомичу Стоякину и его милой жене Антонине Петровне. Мужчины парились в бане, валялись в пушистых снегах, пили меды — настоящие, старорусские, которые тут варить были сущие мастера. Как-то я брал с собой и своего пятилетнего сына позабавляться со взрослыми на природе, покататься с сугробов с хозяйским парнишкой Сережкой, таким же пострелом. Один наш приезд совпал с добычей медведя: как раз привезли освежеванного на заиндевелой лошадке. Кобылку, привезшую такой необычный воз, едва удерживали на месте, она тянула постромки, прядала ушами, фыркала — страх донимал ее лютый. Медведя добыли черного, с белым галстуком, гималайского. Шкура мне очень понравилась. Петр Фомич, видно, понял мое состояние по выражению лица и сказал, чтобы я этот трофей его взял себе. Я было начал отказываться, но Петр Фомич так настоял, что пришлось согласиться, конечно же, с радостью… Раньше я привозил ему свои — городские — подарки, и мы теперь были вроде как квиты… Медвежью шкуру затащили на летнюю кухню, чтобы оттаять да и скатать поудобнее. Трофей разил жиром и псиной. Мне взбрело в голову закутать в медвежину ребятишек, своего и хозяйского сына «приобщить» их к великому делу охоты, как бы «окрестить». Так я и сделал, а после покаялся. Мальчишки мои заревели не хуже медвежат, разбрелись по разным углам и долго хныкали.
Мне потом в городе эту медвежину выделали. Была она мягкой, с волнистой шерстью. Любил я по ней ходить босиком, любил полежать, погладить длинные полосы на хребтине и представлять себе, каким этот зверь был когда-то маленьким, как после рос и вырос и матерого медведя, сколько задрал на прокорм себе кабанов и лосей. Может, и человек попадал в его жуткие лапы?.. Та шкура недолго пробыла у меня. Она очень понравилась одному профессору-медику, который, по сути, вернул жизнь моему сыну, тому самому, кого я «приобщал» к охоте на летней кухне в далеком Кундуре…
— А ты добывал медведя? — неожиданно спросил я Гроховского.
— Медведя? В компаниях охотился, но чтобы один на один — не приходилось.
— Вот тоже и мне пока. Только мечтаю.
— Это у тебя крупный таймень вызвал такие ассоциации? — посмеялся надо мной Владимир Григорьевич.
— Да считай, что так. В общем, зима пригрезилась, одна из поездок в тайгу…
От речки послышались голоса. Через минуту-другую показались Рябуха и Обидион. Улов у них был куда более скромен, чем наш. Мы показали им своего гиганта. Скульптор искренне восторгался, поздравлял нас с удачей. Прикинул вес и тоже сошелся на том, что два пуда будет.
Иные чувства боролись в душе поэта. Он узйл глаза, жевал губами и морщил лоб. Рябуха завидовал и не мог этой зависти скрыть.
— Разделим большого на всех поровну, — произнес он. — По хорошему выйдет куску!
Я оторопел.
— Делить? — вырвалось у меня. — Да я уже подарил вот своему другу из Томска. Там таймени, знаешь, не водятся…
— А мы у тебя не друзья — портянки, — негромко, в сторону, буркнул поэт, но всем это было слышно.
Ну и Рябуха! Провалиться на месте… Наступила тягучая пауза, все какое-то время молчали, Обидион стянул с себя мокрую рубаху, вытер ею лицо и проговорил:
— Чего чудить? Какая дележка? Завтра утром поймаем еще. Будет день, будет и пища.
Я смотрел на Гроховского. Мне было неловко, а ему того хуже. Он не знал, что сказать. Стоял, растирал свою узкую грудь, потом стал одеваться и обуваться, и все мы услышали:
— Ладно, ребята… Пойду погуляю по сопкам… Через часок вернусь.
Мой первый порыв был идти за ним следом, но я передумал, остался, чтобы высказать Рябухе все, что я о нем думаю.
Разговор вышел жесткий, однако отнюдь не скандальный. Обидион взял мою сторону, и Рябуха перестал огрызаться.
Мало-помалу все улеглось, приутихло. Солнце нависло над дальними сопками огромным затухающим шаром. Я посмотрел на светило, взглянул на часы, и маленькая тревога, еще не тревога даже, а лишь росточек ее, шевельнулась во мне: уже третий час, как ушел Гроховский, пора бы вернуться давно, а его нет. Не заблудился бы, ведь местность ему незнакомая. Во мне зародилась тревога, и вот она уж не отпускает, гложет. Неужто полез на скалу где-нибудь и сорвался? А может, сбился с пути и забрел невесть куда? Кричать он не будет, на помощь звать — не в его это натуре. Что же, ждать нам утра, а потом пускаться на поиски? И тут тревога уже кольнула сердце…
Протянулись еще томительных два часа, и никто из нас ничего не предпринял. Да и что можно было сделать, когда уж надвинулась ночь, деревья, кусты и палатки начали расплываться, их очертания мутнели. Мы удалились молча по тропке в сторону речки, пуская в ход изредка фонари. За спиной у нас густо встал лес, а впереди, под сопки, уходила широкая падь. Здесь мы разожгли небольшой костерок и начали ждать: вдруг затрещит, раздадутся шаги, и послышится радостный голос Гроховского. Но тишина и безветрие не породили ни одного звука, лишь временами все так же басисто взревывали козлы, перекликаясь или пугая кого-то. В зените и по низу неба насыпано звезд. Темнота совершенно накрыла нас.
Над травами собирался слоистый туман и смутно белел в отражениях кострового огня. Влажным теплом обдавало нам лица. Стоять бы, молчать, наслаждаться этой безмерно отпущенной нам благодатью. Но во мне все опять закипело, навалились досада и раздражение, которым и не должно быть и места в душе, когда человек на природе, успокоен, обласкан ею. Однако опять полезло тут в голову всякое: не повстречался ли враг, лютый зверь, не сорвался ли друг мой в пропасть? Что угодно могло случиться, ведь нет же его, пропал человек! И виной всему этот любезный Рябуха, приятель мой закадычный! И что за язык-заноза? Экая, право, минера завидовать, жадничать! Будто Рябухе никогда прежде не попадались большие таймени! Переловил он их столько, что дай бог другому. И я на дележку к нему не напрашивался. А тут — рассекай, члени на троих уже отданного, подаренного другу от чистого сердца! Ну не хам ли, ей-богу, скажи? Взял и обидел чистой души человека…
Вот так меня всего будоражило, лихорадило, но я тут больше не дал себе воли пуститься в укоры. Подумал только: уж каков иной есть, таким он и будет до конца дней своих. И ни на каком правиле его не выправишь.
Однако простим ему его слабости! Мой поэт и раньте не лучше бывал, когда на охоте добычу делили. Все обижался, что «направили» не в ту сторону и потому крупный козел набежал на другого — не под ружье Рябухи…
Постепенно ночь летняя таяла, оранжевела заря, предвещая скорый рассвет. Я не спал, но лежал на траве вниз лицом, натянув капюшон… Пребывал в той же позе и скульптор, подрыгивал ляжками от комариных укусов. Он тоже молча переживал случившееся. Никто не хотел говорить, только Рябуха сказал шутливо:
— Никуда он не денется тут! Если только не вздумает с соседями покалужатничать…
— Болтай! — ответил Обидион резко и сильнее зарился лицом в сырую траву.
Поэт Рябуха всю ночь таскал хворост к костру, как бы сам себя наказав за свой язык и скупость.
К утру я так истерзался разного рода догадками, что ослаб душой и меня даже стало поташнивать. Наверно, это от крепкого чая без сахара, а мы его выпили целый котелок.
Стучало в висках, как от глубокого погружения в воду, затылок побаливал. Давно со мной не было этой противной хвори, которая в городе появлялась от шума и загазованности воздуха.
К берегу! В воду скорее — поплавать в парном молоке, исцелиться и уже при ясном свете двинуться по тропам на поиски!
И тогда, после первых шагов к Амуру, послышался рокоток турбодвигателя. Я первый остановился как вкопанный. И тут же сорвался с места. В туманце, по озаренной реке летел катерок пограничников. Наши! Как это кстати! Сейчас катерок сбавит бег, подрулит, на берег выйдут молодцы с черноспинными умными псами, пустят собак по следу, и мы непременно отыщем пропавшего…
Как и в первый тогда приезд, вышел сначала на нос катерка капитан пограничных войск Потемкин. Он мне показался особенно строгим и озабоченным. Спрыгнул на берег без трапа. И больше за ним — никого.
— Соседи сегодня ночью…
Я замер.
— …не заходили в наши пределы ловить калуг!
Вот первое, что мы услышали от капитана.
— А у нас человек потерялся! — опередил меня скульптор Обидион.
— Кто? При каких обстоятельствах? — нахмурился капитан.
— Наш художник под вечер ушел погулять и до сих пор не вернулся, — отвечал я.