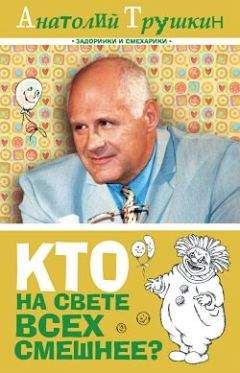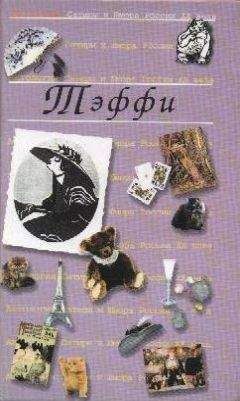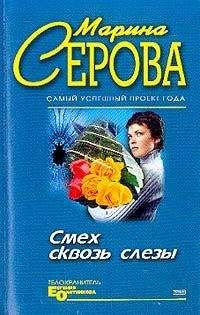Владимир Колыхалов - Кудринская хроника
Я беру из рук друга фонарь, соединяю его и свой наподобие двух стволов ружья и скрепляю их туго шнурком. Благо в кармане у рыбака всегда найдется леска или веревочка.
— Ты хочешь выстрелить по ним светом? — догадывается Владимир Григорьевич.
Пожимаю ему в ответ локоть, нацеливаюсь и щелкаю враз выключателями. Снопы света впиваются в воду, я ловлю в них по очереди то одну, то другую лодку — там бросили весла, сжались. Течением посудины стало сносить. Какое-то время я их преследовал нашими маленькими прожекторами, но лодки все удалялись, сносимые стрежью, а свет фонарей на расстоянии ослабевал.
— Хватит. Теперь уйдут.
— Ловко ты их напугал! — сказал в полный голос Гроховский. — Вот ведь картина! Буду потом вспоминать и рассказывать…
В палатке я долго ворочался, спать расхотелось. И мы в ту ночь поменялись опять ролями: мне досталось дежурство, а Владимир Григорьевич уснул, кажется, перед утром.
2
В такой же невыносимо знойный полдень, как и до этого, мы увидели летящее снизу судно. В пене брызг, в блеске солнца оно надвигалось стремительно и красиво. Гроховский пощипывал усы и улыбался. Я чувствовал, что и он, как и я, приятно взволнован. Едут гости, а это значит, что нам прибавится радости.
Осадив бег, точно рысистый конь, катер на подводных крыльях плавно уткнулся в берег. Первым выскочил старшина, который накануне выдавал нам со склада продукты, воткнул в песок ломик с тонким тросом, а уж за ним выступил на нос судна голенастый, подтянутый и сильно загоревший офицер. Это был Иван Иваныч Потемкин, мой давний приятель, всегда удивлявший меня тем, что совершенно был глух к таким неистребимым страстям человечества, как охота, рыбная ловля. Он не отказывался отведать ухи, посидеть у костра, поесть на привале утятину или пообгладывать кость косули, легко включался в беседу, чтобы тоже поведать какой-нибудь живой случай из практики. Однако, сколько я с ним знаком, он ни разу не выстрелил по дичи, не забросил спиннинга или удочки. Словом, считал эти занятия не для него придуманными.
— Как тут ваша жизнь протекает, дозорные? — браво спросил капитан, здороваясь с нами по очереди.
— Жарко. Смотрите, какое белое солнце — будто в пустыне. — Я вытер пот с лица. — Есть одно происшествие, впрочем…
— Докладывайте.
— Этой ночью соседи ловили калуг под теми вон скалами, — показал я рукой.
— Ловили? Значит, скоро поманит еще, — вывел предположение Потемкин и подозвал старшину. — Слышал?
— Так точно!
Потемкин отвел старшину в сторону и отдал ему какие-то распоряжение.
— Есть! — отчеканил тот.
Тем временем из каюты выбрались и наши долгожданные, оба со спиннингами и рюкзаками. Первым вывалился, точно выкатился, низенький полный Рябуха с отсыревшим от пота гладким лицом, пряча улыбочку а а хитроватым прищуром. За ним вальяжно вышагивал скульптор Обидион, усатый и бородатый, с запечатленной мудростью на круглом лике. Знаю его как весельчака и рассказчика, неутомимого ходока по горам. Выпало, зимой заберемся с ним куда-нибудь на отроги Малого Хингана и шастаем по целым неделям в поисках диких косуль, кабанов, изюбрей. В Обидионе нет ни корысти, ни зависти. А вот у Рябухи с этим не все в порядке. Прижимистый мужичок, сидит в душе у него этакая крестьянская скуповатость. Я отношу это к пережитому им голоду во время войны: он опухал, доходил до истощения, и теперь каждый кусок в руках ближнего ему кажется больше и слаще…
— Чем покормите, братцы? — спросил капитан Потемкин. — К сожалению, не могу с вами долго задерживаться. Всего час свободного времени.
Быстро мы разогрели консервы, уху, поставили кипятить чай. Приезжие ели, а мы были сыты от еды накануне.
Пограничники вскоре уехали, пообещав дня через два помочь нам сняться отсюда. Поэт и скульптор поставили рядом с нашей еще одну вместительную палатку в тени деревьев, и мы вчетвером отправились в устье речки копать ручьевую миногу, заменяющую нам дождевых червей.
Влазили в воду по пояс, черпали ведром донный ил, вываливали его на берег и быстро старались схватить змееподобных миножек, тонких, как прутики. Хотелось на эту наживку поймать верхогляда, крупного краснопера, а еще лучше — ауху, ерша амурского килограммов на пять. Я сам таких еще никогда не ловил, но мне говорили, что попадаются… Миноги кишат в ведре, заполненном наполовину травою и илом с водой. Пора прекращать это дело, чем-то похожее на работу старателя. Устали до ломоты в поясницах, подшучиваем друг над другом, что вот, мол, подцепим радикулит и будем ходить, скорчившись в три погибели.
— А у меня уже есть это счастье, — грустно роняет Гроховский. — Не то окопы отрыжку дают, не то результат моих частых купаний в родных васюганских болотах.
Помню, как в Томске однажды мы переходили с ним улицу Пушкинскую, спешили на пристань. Он шел позади. Оглядываюсь, не найдя его рядом на тротуаре, и вижу: стоит, точно вкопанный, посреди «зебры», схватился рукой ниже пояса. Машины препятствие огибают, водители сердятся, а кто и ругаться пустился в открытую. Что делать? Пережидаю, когда перервется поток, и переношу его на руках… Потом, отойдя, он ступал медленно, гусиным шажком. Пока мы так добирались до пристани, наш пароход ушел. Пришлось по нужде задержаться в пыльном летнем городе еще на двое суток.
— Но вот уже год помалкивает моя болезнь — затаилась, — с довольной улыбкой сообщает Владимир Григорьевич. — Втыкали мне в ноги длинные иглы. Ну, просто, как спицы вязальные… разве чуток поменьше.
Меня от такого сравнения пробрал по коже мороз. А он продолжал:
— И здорово, я вам скажу, помогло!
Сморенные зноем, лежим на траве. Под стрекот кузнечиков я забываюсь: сказалась минувшая ночь.
Спал я часа полтора. Проснулся от неудобства: онемела рука, шею свело, и глаза — чувствую — затекли. И все потому, что голова моя оказалась в ложбине, а ноги на бугорке.
В природе за это время произошли изменения. Дул освежающий ветерок, шумела листва, трава шелестела. Дышать стало сразу легче.
Вон Владимир Григорьевич ожил, занялся этюдом. Обидион с Рябухой настраивают свое «боевое оружие»— спиннинги, перебирают блесны, выискивают в «арсеналах» покрепче тройники, втыкают в пробки жала багорчиков, ибо возможна поклевка большого тайменя, и тогда без багорчика его будет трудно взять.
Начал и я собираться. Молю провидение, чтобы попил мне громадный таймень… хотя бы на пуд. Такая удача прежде уже выпадала (брал я крупных самцов), но сейчас это надо для друга: Владимир Григорьевич еще не видал живого тайменя в глаза. Хочу показать ему эту охоту и перекаты на горной реке, глубокие омуты и шиверы. Красиво тайменя тащить, мучить его до той самой минуты, пока он не сдастся. А он непокорный и сильный. Но уж когда его выведешь! Лежит под ногами живая торпеда с красным хвостом, красными плавниками; гладкая кожа осыпана темными точками, и бока от этого светятся радужно. А нежен! А вкусен! И особенно в сыром виде — подсоленный, с луком и перцем…
Лучше пока не мечтать, не травить себе аппетит и душу!
У речки широкой долины нет. Крутые осыпи, скалы, прижимы. Только в устье река как бы раздается в плечах и свободно втекает в Амур под стражей двух лобастых сопок. Зато речка, как всякий горный поток, изобилует перекатами, омутами, которые здесь повсеместно называются уловами — ямой, где можно поймать, уловить рыбу. Попадаются на этой реке островки, они разрывают русло на рукава, и там, в протоках, тоже пасется рыба — ленки, в основном. А хариус держится под перекатами, в стремительных вспененных струях, где его подстерегают таймени, как волки овец.
Растительность по берегам разная: темный ольховник, дубняк, тальник и черноберезник. Все это разрослось по долинам, крутинам. Но есть и чистины, где только трава растет. Там самые наиудобнейшие места для работы со спиннингом.
Мы все, кроме Владимира Григорьевича, бывали на речке не раз и знаем все улова, перекаты, на которые можно надеяться.
Решили дойти до первых камней-перекатов, а там разойтись. Гроховский желает остаться со мной. Он без спиннинга: обращаться с ним не умеет. Когда я попаду с другом на Обь, где чаще встречаются чистые, ровные берега, то стану его учить забрасывать спиннинг. Но здесь все сложно: «бород» напутает, блесны пооборвет. Пускай походит в болельщиках…
Идем цепочкой. Впереди, выбрасывая короткие ноги, точно пританцовывая, торопится Николай Рябуха. Спининг-рапира лежит у него на плече. За спиной рюкзачок, за поясом — нож и багор. Рябуха весь ушел в мысли о предстоящей охоте. Он и спал-то сегодня наверняка часа два, все думал, поди, какого вытащит великана. Для Николая Рябухи нет пущих страстей, чем рыбная ловля да разве еще ружье. Он живет одиноко, хотя ему уже далеко за сорок. Мы, его близкие, называем Рябуху «заржавелым холостяком», и он на это, спасибо, — не обижается, лишь состроит в ответ кривую ухмылочку, что-нибудь буркнет, а чаще всего промолчит.