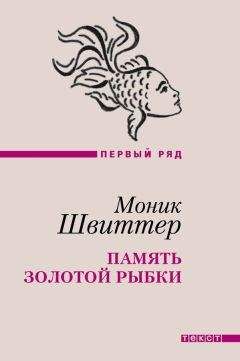Владимир Якименко - Сочинение
Демьян, чертыхаясь, пытался остановить мать, дёргал за руку:
— Опять завелась! Завязывай!
Но мать не слушалась. Слова хлынули горлом, как вода в половодье — ни остановить, ни придержать.
Говорила она о том, что приехал врач и, осмотрев, сказал: «Парню, если не одумается, прямая дорога либо в колонию, либо на лечение». И как язык повернулся такое — матери. Бессердечный человек. Хватит! Покалечила одного жизнь — Сашку. А у этого, говорят, способности. Светлая голова… Так, по дурости, с кем не бывает. Отстояла, уговорила… Но если не одумаешься, ничто не спасёт.
И ещё о каком-то доме рассказывала она, путано, непонятно, словно в горячечном, скачущем бреду. Не доме даже — бараке, где-то у станкостроительного завода. Поселились там в первый год после замужества. Стены деревом пахли — живые, внизу под откосом река. Занавески ситцевые. И жили — человек двадцать, одной семьёй.
— Ты что, хочешь, как в прошлый раз? — процедил тут сквозь зубы Демьян и, сузив глаза, двинулся на мать.
Мать отшатнулась, вскрикнула испуганно.
И вот тогда-то, глядя в его застывшее, бестрепетное лицо, Серёжа вновь почувствовал, обмирая: не надо было приходить, не надо… Добром всё это не кончится. Возникло даже безумнейшее желание — рвануться к двери, убежать, исчезнуть, будто и не появлялся здесь никогда. Но понял: поздно. Уже поздно.
А потом сидели на кухне за столиком у окна, и неясное предчувствие беды, весь этот день томившее Серёжу, исчезло, отлетело вместе с криками недавней ссоры, на смену которым пришла тишина. Проступили внезапно не слышные до сих пор, привычные звуки улицы: дребезжание трамвая, гул и шорох проносящихся по проспекту машин. Серёжа смотрел туда, где в сероватой, просвеченной солнцем дымке над крышами домов вырисовывался шпиль университета; потом опускал глаза — люди, беспорядочно снующие по тротуарам, казались крошечными, ничтожными букашками. И грезилось: в жизни его начинается новое. Отныне он выделится из суетной безликой массы. Имя его узнают в каждом дворе.
Бодрым голосом Серёжа принялся рассказывать Демьяну хохму, которую отколол перед уроком физик Харитон Петрович.
— Говорит, возвращаюсь в субботу вечером из магазина и вдруг вижу: какой-то мальчишка лет пятнадцати, пьяный до невменяемости, шагает по проезжей части навстречу машинам. Говорит, закричал, кинулся к нему (представляешь, с его-то костылём!), потому что невыносимо — собьют дурака, погибнет по собственному недомыслию. Так и сказал: «недомыслию»! И знаешь, губы задрожали: «Как же можно жизнь свою вот так? Зачем тогда мы растим вас, учим?» Ну, и так далее, в высоком штиле. «Если бы я добежал! — кричит. — Но тут возникли откуда-то двое постарше, дружки, наверное, собутыльники, схватили под руки, увели. И знаете, на кого был похож этот…»
— Ага! Всё в точности! — перебил Серёжу Демьян, захохотал радостно и, не в силах усидеть на месте, вскочил из-за стола. — У Лохматого справляли день рождения. «Зверобой», пяток беленьких, «краски» бессчётно. Ну, и отключился в какой-то момент. Видишь? — Демьян показал на своё раскрашенное зелёнкой, отёчное лицо. — Значит, против движения, говорит, по проспекту? А что, мы такие! — Демьян потёр руки, возбуждённо прошёлся по кухне. И в запальчивости, словно пытаясь доказать кому-то: — Мы теперь любого: захотим — помилуем, захотим — с дерьмом смешаем. Хоть у нас и нет «Ливайсов» разных, курточек фирмовых, мафонов японских. Хоть у нас пахан с матерью — люди простые. Всю жизнь пашут на Лихачёвском. Добросовестные, как муравьи, незаметные. А Голубчик, раб верный, сыну их, между прочим, портфель таскает, пятки лижет… А у Голубчика папаша, между прочим, шишка. За ним «Волгарь» чёрный каждый день…
И тут — Серёжа отчётливо помнил это — из глубины квартиры донёсся ясно слышный, но тихий плач. Демьян замолчал. И стал вдруг похож на того прежнего Витю Демьянова, аккуратные чертежи которого, сделанные всегда цветными карандашами, любила показывать классу математичка Клара.
Эта резкая перемена поразила Серёжу.
— Опять, — сказал Демьян, и лицо его передёрнулось. — Накричится, а потом идёт в комнату, дневники мои старые достаёт, грамоты… А я что? — Демьян пошарил в ящике кухонного стола, достал папиросу, размял, закусил умело. Он стоял у приоткрытого окна, нахохлившись, посасывал «беломорину», воровато поглядывая на дверь. — У меня столько врагов — ждут удобного случая… Если отойду от ребят — хана. Пристукнут где-нибудь в подъезде.
Нет, ошеломительное признание своей слабости, непрочности своего могущества не разочаровало, не вызвало вполне понятного злорадства: «Ах, значит, и ты боишься! Ах, значит, и у тебя…» Наоборот, растроганный внезапным доверием, Серёжа думал тогда, вцепившись в край стола побелевшими пальцами, — забыв о Голубчике, о сквере, обо всём, — что никогда, даже в трудную минуту, он не покинет Демьяна. Он защитит его своей грудью, если надо, бросится на ножи… Они победят коварных врагов, они прославятся, о подвигах их заговорят все.
Но до чего же это казалось теперь нелепым, глупым, невозможным — поверить трудно, что думал так всего три-четыре месяца назад. Ведь Демьян не человек, его даже в разряд животных не зачислишь. Он безжалостен; он, глазом не моргнув, искалечит, раздавит, сотрёт с лица земли.
5
На первый урок — физику — Серёжа опоздал. Он понял это, миновав железные ворота школьного двора, как всегда в утренние часы, широко распахнутые. Пятиэтажное здание школы всё в огнях, словно просвеченное насквозь, зловеще молчало. Ночные фиолетовые тени жались к стенам ближайших домов, прятались под заснеженные деревья, в беспорядке толпящиеся вдоль бетонного забора. Занимался серенький зимний рассвет.
Одним духом взлетел Серёжа на высокое, уже основательно вытоптанное крыльцо и замер перед массивной двустворчатой дверью, не решаясь распахнуть. Сквозь стекло в желтоватом рассеянном свете он видел центральную часть вестибюля и завуча Нину Петровну (формой тела она удивительно напоминала гитару, лишённую грифа), стоящую как раз против двери в величественной, почти скульптурной позе: голова чуть откинута назад, руки скрещены на могучей груди, и нога в коричневой, лаково блестящей туфле нетерпеливо постукивает об пол тяжёлым, низко срезанным каблуком.
Нина Петровна была вся — ожидание, вся — готовность к действию. Она возвышалась в центре вестибюля, как символ карающей силы, того единственного, что могло ещё, по мнению завуча, поддержать авторитет учителя, порядок и дисциплину в школе.
Серёжа отпрянул от двери. Мурашки пробежали у него по спине, лишь только представил он, как потянет ручку двери на себя и лицо Нины Петровны — грубое, мужеподобное лицо с тёмными усиками над верхней губой — приблизится, наливаясь чернотой, точно грозовая туча. Разящие молнии вылетят из глаз завуча, кажущихся под стёклами очков чудовищно большими. Громовые раскаты её голоса достигнут ушей каждого учителя и каждого ученика, напоминая об ответственности и дисциплине. «Ну, ты знаешь, когда начинается урок? Так, это ты, слава богу, усвоил за восемь с половиной лет. А теперь взгляни на часы… Только не надо оправдываться, не надо лгать!» И с брезгливостью, двумя пальцами принимая из рук его дневник, кивком головы укажет в сторону своего кабинета.
Но Серёже положительно везло в это утро. Когда он вновь с осторожностью приблизился к двери, вестибюль был пуст. Это казалось невероятным, это противоречило всем правилам, ведь Нина Петровна обычно, отпустив вместе со звонком на урок дежурных, сама простаивала у двери до девяти. Ещё не веря своему счастью, Серёжа скользнул в вестибюль, кошачьими, мягко пружинящими шагами прокрался в раздевалку для младших классов — дверь её всегда оставалась открытой. На вешалках, у входа навалены были ворохи одежды, несколько шапок и пальто валялись на полу. Серёжа разыскал свободное место, повесил пальто, сунул шапку и шарф в рукав.
Теперь оставалось подняться по лестнице на второй этаж и на ходу придумать себе хоть какое-нибудь оправдание.
Прежде чем выйти на лестничную площадку, Серёжа на всякий случай обернулся — взглянуть, не выросла ли ненароком в дверях канцелярии грозная фигура Нины Петровны. Но вестибюль был пустынным и тихим на удивление. Серёжины шаги, хоть и старался он ступать неслышно, гулко разносились в тишине. Школа напоминала враждебный лагерь.
Но удача не оставляла его. Дверь физического кабинета оказалась приоткрытой. В противном случае пришлось бы стучать. А так появилась надежда проскользнуть незамеченным.
Вот только что́ он скажет физику, какие слова найдёт для своего оправдания, если тот вдруг увидит и спросит? Харитону Петровичу он не мог городить разную чепуху: о будильнике, который отставал на пятнадцать минут; или о больном зубе; или о классной руководительнице, задержавшей по неотложному делу (Харитон Петрович не станет проверять); или, на крайний случай, о расширяющем зрачки лекарстве, которое закапала глазник, запретив писать и читать до вечера… Физик не такой человек. Ему можно сказать правду или промолчать.