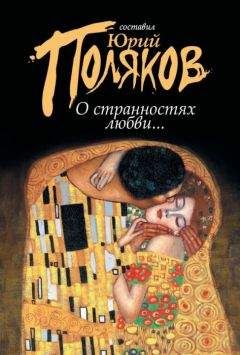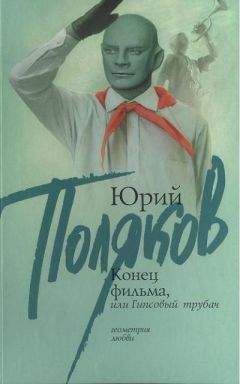Юрий Поляков - Козленок в молоке
– А знаешь, я на вручение такое платье себе купила – совершенно белое, с малиновым поясом…
– Тебе идет белое.
– А он и в самом деле просто чальщик?
– Да.
– Неужели ты не мог хотя бы слов тридцать в него запихнуть? С ним же поговорить не о чем. Помнишь, как мы с тобой целыми ночами разговаривали… Ты мне стихи читал!
– Помню.
– А помнишь, какие ты стихи написал, когда еще за мной ухаживал? Помнишь?
– Конечно… – ответил я. – Я все помню.
– А помнишь, как ты мне звонил и дышал в трубку?
– Вестимо. Но это было потом, когда все кончилось…
– Глупенький! Кто тебе сказал, что все кончилось? Все только начинается… Я возвращаюсь с войны! Хватит. Штык – в землю!
– Правда?
– Я тебя когда-нибудь обманывала?
– Всегда.
– Да, в самом деле… Но я не тебя обманывала, я обманывала себя! А ты тоже меня обманул. Мы квиты. Давай теперь начнем с чистого листа…
Трубка неожиданно перешла к Николаю Николаевичу.
– С какого, на хрен, чистого листа? – заголосил он. – У нас тут целая папка чистых листов! Сколько можно?!
Потом я снова услышал ласкающий голос Анки:
– Папа нервничает – его можно понять! Если его выгонят с работы, это
– катастрофа: книги писать он давно разучился… Нам просто будет не на что жить! Я буду голодать… Ты хочешь, чтоб я голодала?
– Хорошо! – внезапно согласился я. – С чистого так с чистого… Сколько у вас валюты осталось?
– Сейчас узнаю…
В трубке послышались сквалыжные разборки, шелест купюр, звон мелочи.
– Триста двадцать пять долларов… Акашинская премия не в счет. Ее, оказывается, наше государство забирает. Даже Журавленке ничего сделать не может, – объяснила Анка.
– Думаю, хватит. Возьми из папки чистую бумагу и ручку!
– Взяла!
– Теперь пиши заголовок: Автандил Гургенов. «Табулизм, или Конец литературы». Написала?
В трубке раздался заинтересованный голос Сергея Леонидовича:
– Это какой еще Гургенов? Любин-Любченко, что ли?
– Не твое дело!
– Как это не мое! Как раз мое.
– Я сейчас передумаю! – пообещал я. Ситуацию смягчила Анка.
– А знаешь, – вздохнув, сказала она, – я тут все время тебя вспоминаю…
– Как?
– Неужели забыл – как…
– Нет, не забыл…
На глазах у меня навернулись теплые слезы.
– Пузик, а с кем ты так рано разговариваешь? – голосом сонной Софи Лорен спросила Ужасная Дама и, нежно вминая в матрац, погладила меня по голове.
– Сам с собой. Спи!
– Кто это там у тебя? – ревниво поинтересовалась Анка.
– Радио… Записывай! С абзаца: «По справедливому замечанию Готфрида Бенну, написание поэтической строки – это перенесение вещей в мир непостижимого. Но если от неведомого образа мы продвинемся дальше, в область невидимого, то несомненно должны вспомнить знаменитую „черную соль“ алхимиков! Хотя, по мнению Юнга…» Написала? Хорошо, буду диктовать медленнее…
Когда я закончил диктовку, рыжее утреннее солнце уже просунуло свои щекочущие тараканьи усики в мое окно.
– Спасибо! – сказала Анка. – Ты – друг. Я тебя целую. Пока!
Это был ее последний поцелуй. Даже не воздушный – телефонный… (Запомнить навсегда!)
31. ЭПИЛОГ НА НЕБЕСАХ
1
Я тоскливо глянул в иллюминатор: мы неслись сквозь рваный молочный туман. Самолетное крыло, точно гусиной кожей, было покрыто бесчисленными стальными заклепками и такими же бесчисленными крупными каплями воды, отличавшимися от заклепок только чуть заметным дрожанием. Внизу, под накренившимся и трепещущим крылом, виднелась бурая, с желтыми отмелями лужа Химкинского водохранилища: там, как спички, – плавали лодки. Дело шло к развязке: самолет круто заходил на посадку. Я ощутил над собой душное парфюмерное облако и поднял глаза.
– Вам передавали привет! – сказала стюардесса, одаривая меня своей вставной улыбкой.
– Кто?
– Ваш друг, рыжий такой… Он к вам уже подходил! Да вон же он!
Я оглянулся: из-за портьеры, отделяющей бизнес-класс от экономического, выглядывал Акашин. Глумливо улыбаясь, Витек показывал мне два больших пальца, поднятых вверх. Вдруг улыбка исчезла с его лица, уступив место выражению изощренной жестокости, переходящей в садизм. И он медленно повернул оттопыренные большие пальцы вниз – так римляне приказывали гладиатору добить жертву. Затем, хохотнув, Акашин театрально исчез за портьерой.
Мое сердце сжалось до размеров куриного.
– Шутник, – улыбнулась стюардесса. – А он и в самом деле писатель?
– Кто вам об этом сказал?
– Он сам. А в библиотеке его книги есть?
– Скорее нет, чем да…
– А вы тоже писатель?
– Почему вы так решили?
– Говорите вы с ним как-то одинаково.
– Нет, я уже не писатель…
– Значит, вы друзья?
– Сиамские…
– Как это?
– Скоро узнаете… Он пил?
– Да. Четыре раза заказывал. Даже жена стала ругаться…
– Какая жена?
– Он с женой летит. А вы не знали? Очень интересная дама…
– Но ведь они разошлись! – невольно вскричал я.
– Сегодня разошлись, завтра сошлись… Я сама с мужем два раза разводилась. Сейчас опять вместе живем, нерасписанные…
– Возможно, и так, – кивнул я. – Мы идем на посадку?
– Да. Пристегнитесь! А он мне даст автограф?
– Не знаю, наверное, если писать не разучился… Мы с ним давно не виделись…
– А вы тоже шутник!
Я и в самом деле не видел Витька с того самого момента, как простился с ним в Шереметьево-2. Все дело в том, что еще до его возвращения из Нью-Йорка мне пришлось бежать из Москвы, ибо мою судьбу неодолимой поступью тиранозавра перешла Ужасная Дама. Каждый вечер с сумкой, набитой продуктами, она вторгалась в мою квартиру, ставила кастрюли и сковородки сразу на четыре конфорки, а потом на сытый желудок начинались ночные кошмары. Я предпринял робкую попытку расстаться, но она предупредила, что будет бороться за нашу любовь: убьет сначала меня, а потом и себя. Сперва я хотел согласиться даже на это, но изменил решение, вообразив, что могут подумать милиция и понятые, когда обнаружат мой вполне достойный мужской труп рядом с ее обескураживающим телом. Но надо было что-то делать: одна бутылка «амораловки» уже кончилась, и в скором времени мне предстояло просто испепелиться в клокочущем кратере ее термоядерной женской нежности.
Спасение пришло, как это часто случается, неожиданно: за готовым переводом поэмы «Весенние ручьи созидания» ко мне заехал Эчигельдыев, его как раз вызывали в Москву на всесоюзное совещание заведующих отделами агитации и пропаганды райкомов партии, чтобы разъяснить, зачем это вдруг в центральной печати появилось сразу несколько открытых писательских писем и что такое «плюрализм». Он приехал ко мне прямо с совещания, прочитал перевод, похвалил, а потом сказал, что в связи с грядущими внезапными революционными переменами, о чем их строго предупредили на совещании, поэму нужно полностью переписать. Что он и сделал еще до конца совещания: