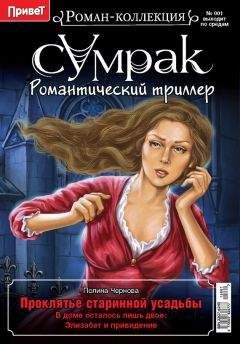Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 8 2013)
Это стихотворение, построенное на описании фотографии, проясняет то, как настоящее соотносится с прошлым в других стихах Львовского: настоящее всегда содержит в себе следы утраченного, но прошлое при этом остается «непроявленным» в полной мере — оно всегда полустерто, слова, которыми говорят о нем, «распадаются, как под ногой рассыпаются перестоялые грибы» (Гофмансталь). Они словно бы испытывают сомнение в своей способности отразить реальность, а их референты размыты и нечетки. И в первую очередь это происходит с теми словами, которые произносят персонажи Львовского, — всегда заброшенные в движение истории: «он прислушивается / где они / голоса других? / где они, голоса / с другим тембром? / один шум на всех / частотах, одни / три минуты / тишины».
Эта плавающая референция проникает во все тексты Львовского последних лет, и некоторая вершина этой тенденции — поэма «Чужими словами», в которой все слова имеют конкретный литературный источник, но при этом значат вовсе не то, что должны. Возникающий в самом начале поэмы Комитет по невмешательству в испанские дела делает это двоение явным: принцип произвольности языкового знака доводится здесь до предела — связь означающего и означаемого становится непредсказуемой не только в исторической перспективе, но здесь и сейчас [5] . И эта произвольность оказывается не теоретической абстракцией, а сокрушительной силой, в любой момент готовой вторгнуться в жизнь (как невинное слово камон в одном из не вошедших в книгу стихотворений начинает метонимически обозначать совсем другой объект: « пати , пати — орут / мертвые бабушки. // тут из автобусов / высыпает камон . / камон everybody / и поет что-то вроде // ты моя пасха / яблочко ты мое // а я твой камон. / я твой беслан // твой талисман » [6] ).
Вещи мира готовы вывернуться наизнанку, но в то же время, как сказано в самом начале поэмы «Чужими словами», «есть вещи, от которых нельзя отступиться». Однако произвольность означивания пытается взять этот барьер почти в каждом стихотворении. Кажется, такое отношение с языковыми знаками — не просто элемент поэтики, но глубинное следствие внимательного анализа сложившегося human condition (далеко не только в нашем отечестве). Так, «Советские застольные песни» в любой момент готовы обернуться гиньолем: «плещут / холодные волны. // сами зарезали / корейца. / сами убили / китайца. // оскопили дагестанца. / забили якута. / сбросили на рельсы / таджика. // чайки несутся / в Россию». Этот небольшой цикл отчасти продолжает «наивные переводы» песен из книги «Camera rostrum», но устроен противоположным образом: если в прежних переводах неловкость и хрупкость речи, намеренно сохраняющей синтаксис английского оригинала, была призвана отразить общность опыта, преодолевающую границы языков и государств, то в новых парафразах героическое прошлое, запечатленное в архаичных песенных текстах, «расподобляется», перестает быть равным себе, а слова, с помощью которых говорят о нем, почти вынужденно отражают неприглядную реальность, находящуюся в основании героических повествований. Эта неустойчивость языка в конечном итоге ведет к молчанию.
Молчание — важное слово, ведь каждый текст Львовского кем-то рассказывается и произносится. У каждого стихотворения есть свой «голос», обладающий собственной субъективностью и идентичностью, и поэма «Чужими словами» с ее полифонией оказывается лишь крайним и наиболее наглядным выражением этой тенденции [7] . Это сгустки речи, возникающие на фоне исторического молчания, невозможности «разговорить» опыт прошлого. Так происходит, например, в цикле «39, 41», в котором узнаваемые знаки нарратива о великой победе переосмысляются как отзвуки неуслышанных голосов: «черной ряженкой прадедов истекает висок / пока он лежит подо ржевом и над ним стоит / тишина. // дожили пацаны весна — говорит старшина».
Речь эта, однако, остается направленной в никуда, непонятной и не предназначенной для понимания. Впрочем, коммуникативный провал оказывается свойственен вообще любой ситуации, далеко не только разговору с предками, но и любому разговору («…она / оказалась совершенно чужой очень маленькой / женщиной, слишком теплой, без вообще ничего / в голове. он оказался совершенно чужим, / неправильно говорящим, думающим совсем / не о ней, туристом в имперской столице, просто / одним из людей, совершенно чужим человеком»). Внимание к этой невозможности коммуникации доходит почти до мономании, раскалывая каждый текст и заставляя читателя находить соответствия в собственном опыте, несомненно, богатом на аналогии такого рода.
Отчасти это связано с тем, что герои Львовского далеко не всегда могут в полной мере почувствовать себя субъектами, «проявиться» в речевой (и не только) реальности. Они не могут отделить себя от обступающего хаоса истории и не могут найти подходящих слов для описания своего положения в наличной действительности. Разрыв между ними и языком, с одной стороны, и между ними и поэтом — с другой, оказывается подчас слишком очевиден. Поэт, говоря словами Жака Рансьера, не может идентифицировать себя «с теми жертвами, сами лица которых <…> невидимы» [8] , но пытается преодолеть этот коммуникативный разрыв, прислушиваясь к «белому шуму» истории и выделяя из него кванты речи, почти полностью растворившиеся в потоке времени.
Львовский крайне внимателен к социальному контексту: его герой — не просто человек, но человек, погруженный в некоторые социальные отношения (более того, именно эти отношения приводят его к жизненному краху). Однако этот социальный порядок всегда воспринимается как данность, выход за пределы которой, как уже было сказано, возможен лишь посмертно. И здесь кроется важная конструктивная особенность его поэзии: она сосредоточена на прошлом, на его толковании и озвучивании, при этом некоторые действия в будущем возможны только как новые травматические эпизоды, углубляющие и усложняющие и без того прошитую травматическим опытом историю: они не снимают противоречия, но создают новые. Диалектическая логика «снятия» здесь не работает, так как история оказывается длящейся структурой, сложность которой возрастает со временем, и единственное упрощение возможно только в связи с физической смертью фигурантов, обретающих, возможно, вечное освобождение. Кажется, именно в этой точке социальность Львовского противостоит социальности некоторых «левых» поэтов (прежде всего, Кирилла Медведева), для которых посмертное разрешение конфликтов оказывается неприемлемым [9] .
В заключение замечу, что подобная структура темпоральности и особенности поэтики, которые она обусловливает, оказались незамеченными теми представителями младшего поколения, для которых опыт Львовского был принципиален (в диапазоне от Ксении Маренниковой до Ивана Соколова): для этих поэтов на первом плане стоял пластичный, подчеркнуто современный стих и, конечно, особая эмоциональность, лишившаяся, впрочем, конструктивной мотивировки [10] . Влияние Львовского на младшее поколение огромно, однако при этом его никак нельзя назвать фигурой консенсуса: напротив, младшие современники, принадлежащие, казалось бы, той же литературной страте, часто поляризуются в зависимости от отношения к этому поэту. Нельзя ли объяснить это тем, что ситуация исторического разлома, утраты пусть вызывающего ненависть, но привычного мира, которая так важна для Львовского, не находит отклика у поэтов восьмидесятых годов рождения, для которых руинированная реальность — скорее отправная точка? Предположу, что причина пренебрежения к Львовскому со стороны тех младших поэтов, которые также не находят для подобной оптики оснований в собственном опыте и в то же время не способны проникнуться «эмоциональностью» этой поэзии, — в том, что для них эмоции, вызываемые текстами Львовского, представляются едва ли не единственным их содержанием, а сами тексты воспринимаются почти как «прикладные» — рассчитанные на то, чтобы произвести определенный, заранее просчитанный эффект. Тексты, манипулятивные по своей природе.
Не стоит числить эти рассуждения по ведомству войн за литературное наследство: в случае Львовского это не только вопрос влияния на умы младших современников, но и вопрос того, насколько малейшие отличия в историческом опыте способны приводить к принципиально иному восприятию поэтического текста. И дело здесь не в эрудиции читателя, способного распутать подчас нетривиальный интертекстуальный код и уловить едва заметные глазу движения духа теории, а в синхронном воздействии разных уровней поэтики, в которой сильнодействующие, «растормаживающие» стиховые средства работают вместе с гораздо более глубокими, но не всегда очевидными механизмами, требующими от читателя полной самоотдачи и ясного понимания поставленных поэтом задач.