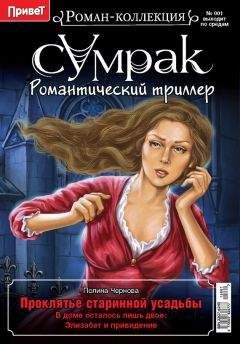Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 8 2013)
Перед нами случай, когда сын за отца — отвечает, и ответы эти в своей совокупности составляют единое, пестрое, но цельное и выразительное эмоциональное свидетельство. Возьмем, например, описанную многими чистопольцами трагедию сентября 1942-го, когда нелепо погибли мальчики, нашедшие неразорвавшийся снаряд. Среди них был Миша Гроссман, впоследствии умерший от ран на операционном столе. Елена Левина вспоминает подробно и мучительно:
«Грохот от взрыва раздался такой силы, что мы услышали его на огороде и не могли понять, что это. Когда вернулись в интернат, то увидели взволнованного Женю [Зингера. — Д. Б., Т. С. ], стоявшего у входа в дом. Он уже что-то рассказывал, а когда подошли мы, начал снова и много раз повторял и повторял, как нашли снаряд, как его упорно били, все пытались выяснить, настоящий или нет. Какой ужас он увидел: изувеченные тела, погибших и Мишу без рук и ног. <…> Миша умер на другой день».
А вот воспоминания о том же событии самого Евгения Зингера, уже не просто современника, а непосредственного очевидца события, спасшегося лишь по чистой случайности:
«Один любопытный парень предложил его [снаряд. — Д. Б., Т. С. ] разобрать. <…> Хорошо помня отцовское наставление и понимая риск дальнейшего „изучения” снаряда, я попытался объяснить моим товарищам опасность продолжения их „экспериментов”.
— Если ты боишься, можешь не смотреть и вообще уйти, — грубо ответил мне главный „испытатель”.
Рассудительный Миша Гроссман решил успокоить всех:
— Раз этот снаряд нашли в военкомате, значит, он учебный. <…>
Сильно оглушенный громким взрывом, я некоторое время почти ничего не слышал. Когда же сообразил, в чем дело, немедленно бросился к ребятам. Взрыв снаряда поднял с земли такую страшную пыль, что вокруг не стало ничего видно. Пройдя несколько метров, моя нога что-то задела. Я даже не сразу понял, что это была чья-то оторванная часть тела. Во дворе слышались душераздирающие стоны и крики о помощи».
Видно, что воспоминание это — жуткое, болезненное, и даже стилистические огрехи («пройдя несколько метров, моя нога что-то задела») говорят о том, что перед нами живая, непосредственная боль — спонтанная, еще никак не оформленная стилистически.
Несмотря на то что книга Громовой лишена центральной фигуры, в ней действуют несколько ключевых векторов, вдоль которых расположены силовые линии воспоминаний. Эти векторы указывают на судьбы людей, о которых говорят почти все герои, — Марины Цветаевой, ее сына Мура и Бориса Пастернака. И если биографические обстоятельства Цветаевой и Пастернака широко известны, то своеобразная исключительность Георгия Эфрона вовсе не так очевидна. И тем не менее Громова отмечает, что его появление в Чистополе стало одним из самых ярких и часто вспоминаемых разными людьми событий:
«Ироничный юноша с хорошими манерами, в заграничном костюме воспринимался советскими детьми, плохо одетыми, воспитанными в презрении к внешнему, — как инопланетянин. Всякий, кто его хоть раз увидел, уже не мог забыть никогда. И конечно же, все в интернате говорили о судьбе его матери, многие родители знали ее стихи, переписывали их от руки, обсуждали и осуждали поведение Асеева, который должен был взять мальчика к себе».
Доведенная до отчаяния Цветаева в последние свои дни все чаще говорила о том, как мечтает освободить от себя Мура, надеется, что после ее смерти он — с помощью Асеева — сумеет жить лучше и легче (такое же желание — освободить от себя детей, а не освободиться самой — возникнет у Елены Санниковой, и она тоже уйдет из жизни по своей воле). На деле развязка получается трагической. Сын не желает брать на себя ошибок матери, язвительно, чуть ли не с бравадой отвечает на вопросы о ее смерти, пытается жить самостоятельной взрослой жизнью. Однако эти попытки тщетны, Георгий лишается малейших перспектив и надежд, стремительно доходит до той же степени отчаяния, что и Марина Ивановна. Яркий, гордый и элегантный молодой человек, окруженный трагическим флером, не может остаться незамеченным, смешаться с толпой. Большинство героев книги Громовой так или иначе упоминают о своих встречах с ним. Как ни пытался Мур избавиться от славы «сына Цветаевой», выстроить свою собственную жизнь, он во многом повторил ее судьбу: те же непрерывные поиски самого себя, несомненный литературный дар, одиночество и «нездешность». Георгий Эфрон погиб от ран через несколько дней после отправки на фронт и, по всей вероятности, был похоронен в безвестной братской могиле. И здесь фатальная параллельность судеб: место погребения Цветаевой до сих пор точно не установлено.
Стереоскопия взгляда на прошлое, предложенного и детально разработанного Натальей Громовой, необыкновенно привлекательна и многозначительна. Воспоминания детей советских литераторов ценны сами по себе, они трогают любого читателя, независимо от степени его историко-литературной подкованности, осведомленности о перипетиях судеб российских писателей прошлого века. Но этим дело не ограничивается: работа Громовой представляет значительный интерес и для профессионалов, умеющих видеть и ценить новые введенные в оборот факты и интерпретации известных событий. Русисты прекрасно знают, насколько сложным и многоаспектным был военный и, в частности, эвакуационный период развития отечественной литературы. Знают, например, что именно в эвакуации многими были осознаны масштабы поэзии Марии Петровых, что Арсений Тарковский в это время создает потрясающей силы стихотворный цикл — «Камскую тетрадь», позднее переименованную в «Чистопольскую»… Все эти и иные известные события в книге не упомянуты, но так или иначе предстают в новом свете, обрастают деталями, обретают ранее не известные контексты.
Чистопольская тема настолько обширна, и корпус текстов воспоминаний и свидетельств настолько велик, что их хватит не на одну книгу. И хочется верить, что книги эти рано или поздно увидят свет. Зачем — сама Наталья Громова точно сформулировала в одном из интервью [3] :
«Есть люди, которые занимаются филологией. Есть люди, которые занимаются историей. А есть странный путь. Не ты выбираешь, тебя выбирают, и меня выбрали люди, которых я „раскапываю”. Нам кажется, что мы за ними наблюдаем, а это они на нас смотрят. Мы живем в истории, а они уже зрители. Я действую, а они уже в вечности. Меня не убедить в том, что это никому не нужно. Мне всегда кажется, что если это нужно тебе, то нужно и кому-то другому».
[1] Юнгер Э. В стальных грозах. Перевод с немецкого Н. О. Гучинской, В. Г. Ноткиной. СПб., «Владимир Даль», 2000, стр. 35.
[2] Ср.: «Все, что есть, познаваемо „в себе”, и его бытие есть содержательно определенное бытие, которое документируется в таких-то и таких-то „истинах в себе”. <…> То, что, однако, в себе четко определено, то может быть определено объективно, а то, что может быть объективно определено, то может быть выражено, в идеале, в четко определенных значениях слов. Бытию в себе соответствуют истины в себе, а последним — четкие и однозначные высказывания в себе. <…> Однако от этого идеала мы бесконечно далеки. Стоит только подумать о многообразии определенностей времени и места, о нашей неспособности определить их иначе, как через отношение к уже предданным индивидуальным существующим предметам (Existenten), тогда как сами они не поддаются строгим определениям без использования по существу субъективно значимых выражений. Пусть попробуют вычеркнуть сущностно окказиональные слова из нашего языка и попробуют описать какое-нибудь переживание однозначным и объективно четким образом. Очевидно, что любая такая попытка тщетна» (Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 3 «Логические исследования. Т. II». Перевод с немецкого В. И. Молчанова. М., «Дом интеллектуальной книги», 2001, стр. 92).
[3] Громова Н. «Крики „виновен” сменяются ужасом» (беседовала О. Тимофеева). — «Новая газета», № 28 — 15.03.2013 <http://www.novayagazeta.ru/arts/57214.html>.
Довоенное детство
Станислав Львовский. Всё ненадолго. Предисловие Полины Барсковой. М., «Новое литературное обозрение», 2012, 192 стр. («Новая поэзия»)
При разговоре об этой книге перед критиком встают две опасности: во-первых, несмотря на то, что посвященных Станиславу Львовскому статей не так уж много, почти каждая из них сообщает что-то существенное об этом поэте — существенное и в то же время ставшее со временем очевидным, повторение чего чревато хождениями по проторенным путям. Вторая опасность касается наличной литературной ситуации: присутствие Львовского в том сегменте отечественной словесности, к которому относится и автор этих строк, более чем ощутимо, и многие младшие поэты находятся с его текстами в постоянном отношении притяжения/отталкивания, а это приводит к соблазну говорить о его поэзии с точки зрения влияния на текущий момент, игнорируя ее внутреннюю механику. Львовский всегда на полшага опережал текущую литературную ситуацию: его письмо часто принималось как почти единственный возможный способ говорить с позиции современности, прислушиваясь при этом к голосам поэтов прошлого (в первую очередь, неподцензурных — в диапазоне от Бродского до Сатуновского). При этом фактура стиха Львовского не оставалась неизменной: в разное время он прибегал к разным регистрам поэтической речи, которые, однако, объединяла особая оптика, куда более устойчивая, чем сменяющиеся формальные приемы. Новая книга в этом отношении не исключение: здесь нашлось место и комбинаторной документальной поэме «Чужими словами» (опубликованной на бумаге, к слову сказать, почти четыре года спустя после появления в Интернете), и парафразам советских популярных песен, и жесткому социальному анализу.