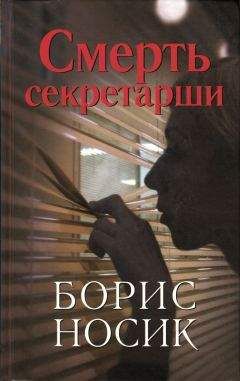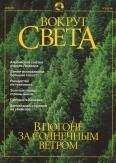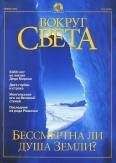Борис Носик - Смерть секретарши (повести)
После этого письма многое встало на свои места — и влюбленность в девочку из Вальпарайзо, и другие дети (только заплати, пишет он, — и брак готов, но я, дескать, не стал; очень, кстати, похоже на письма Пушкина к жене — отказался, мол, от калмычки, еще отказался от башкирки, а потом нет-нет да и оговорится в стихах, что никакого резона от калмычки нет отказываться: «Друзья, не все ль одно и то же…»). Может, и самая мечта об Океании у Маклая возникла из-за этой вот, даже для Европы криминальной, склонности, а в Океании возрастного ценза никакого не было, тем более если белое божество, человек с Луны. Вот тебе и заметка для воскресного чтения: Маклай и дети. С крестьянином Новгородской области было тоже забавно. Маклай приводил в письме крестьянину немало практических резонов против его эмиграции на остров — лет вам уже немало, денег у вас нет, а детей много, для поездки нужны средства. И верно, что нищий крестьянин с малолетними детьми был бы для Маклая небольшим подспорьем при создании русской колонии. Крестьянин же Киселев писал Маклаю в новом письме, что да, конечно, ваша правда — и сам я не молод, и денег нет, и тяжко сниматься, но как раз в детях дело: как подумаешь, что детям тут расти, в той же нищете и бесправии… А если еще, не дай Бог, начнут они понимать свое положение, мыслить начнут — еще страшней. А если к тому же захотят изменить свое положение и пустятся на всякие крайности — страшно подумать.
Нет, нет, все это очень мало подходило для Капитоныча с Валевским…
Евгеньев пообедал и вернулся к себе в комнату, где Юра вполголоса совещался теперь с каким-то мидовцем. Оба выжидающе посмотрели на него, и Евгеньев, не выдержав этого взгляда, снова ушел из кабинета и засел со своим комментарием в Ритином предбаннике, рассеянно слушая ее телефонные разговоры.
За послеобеденный час Рита успела уладить не меньше десятка каких-то проблем, своих, шефовых и даже Гениных (аванс для командировки, оплата фотографий и так далее). Вообще, как он отметил, за этот час телефонного говорения Рита совершила множество добрых дел, и некоторые из них вовсе бескорыстно или почти бескорыстно, просто из любви к добрым делам и доброму деланию, так что она не должна была получить за них никакой награды, кроме скудной своей зарплаты, и даже никто не скажет про нее, что она какой-нибудь там благодетель человечества и доктор Швейцер. Были, конечно, и какие-то тряпичные дела: в результате перепродажи чьих-то пяти тряпок одна оставалась ей почти бесплатно, но вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову укорять ее за эту сложную и не вполне легальную операцию: собственного месячного оклада Рите вряд ли хватило бы и на полтряпки. Что же касается бесчисленных звонков по делам Капитоныча и Колебакина, то Рита по справедливости могла бы претендовать на половину их немалого жалованья.
Иногда, отвлекаясь от происков Вашингтона и Тель-Авива, Евгеньев более внимательно вслушивался в ее разговоры, и ему приходило в голову, что вряд ли кто-нибудь из говоривших с ней по телефону мог бы догадаться, сколь незначительно интеллектуальное обеспечение этого то дружеского, то всепонимающего, то почти интимного тона. Да и на что было ей это обеспечение, главное — не сказать лишнего, вовремя промолчать, выслушать собеседника, главное — это уметь себя подать, намекнуть на некое понимание и контакт, на нечто большее, что могло бы быть, а может, и давно бы у них было, если б не суматоха дел, не груз обстоятельств…
Потом Рита повернулась к нему, спросила:
— Звонить Фиме?
— Конечно. Привет ему от меня.
— Он в этом не нуждается, если звоню я. Хватит с меня… Ты прав. Позвоню.
Потом был еще один телефонный разговор, и по идиотическому имени собеседника Евгеньев угадал, что звонит летописец подвигов Залмансона, сделавший недавно официальное предложение Риточке и теперь, вероятно, с нетерпением ожидавший ответа. Конечно, не в Риточкиных правилах было разговаривать с кем бы то ни было грубо или неосторожно, и все же тон ее разговора с Голодранцем удивил Евгеньева.
— Конечно, Марилен Соломоныч, — разливалась она. — Конечно. Если б я только собиралась, то в первую очередь… Ну что вы, что вы? Вы же знаете, как я вас уважаю, потому что вы настоящий творческий работник, я знаю… и вы знаете, как я…
«Что-то он слишком много знает, этот мудила», — думал про себя Евгеньев, слушая разговор с нарастающим интересом.
— Конечно. Вы же знаете, что я одна, я сирота, и мне не с кем посоветоваться, и даже тетя Шура умерла, а теперь все на меня сразу свалилось, нет, я знаю, что вы не пожалеете, но у вас самого… Я знаю, я ценю, тем более мне ценно, когда такой человек, как вы…
Евгеньев не стал допытываться, какой же он все-таки такой человек, этот чайник, потому что услышал в Ритиных причитаниях нотки искреннего волнения, и это было, конечно, трогательно, но это было и чудовищно — этот слабоумный, этот кретин, этот вечный мудак с вечным своим Залмансоном, он в ее глазах был еще и творческим работником, так, будто этот безжалостный, горбоносый Залмансон был плод его распаленного воображения и как будто в его, Залбера, косноязычных заметках можно было найти следы творческих озарений.
Положив трубку, Рита долго молчала, и Евгеньев с обидой отметил, что она не хочет поделиться с ним этим, наверное, дорогим для нее, а может быть, и вполне интимным переживанием.
Евгеньев не добрался еще до конца комментария, когда пришел Колебакин, и тут Евгеньев с удивлением отметил, что Рита вполне согласна с Колебакиным по поводу Коли, потому что Коля уж слишком себе позволяет. Что именно слишком, это было, в сущности, не важно, но Колебакин тоже считал, что слишком, и это было трогательное единодушие, потому что для Риты было не важно, что там написал Коля или что пишут Колебакин с Валевским, важно было, как кто себя ведет, так вот, оказалось, что Коля вел себя хуже, чем Колебакин.
Еще заглядывал кадровик, которому даже шеф подал руку то ли с опаской, то ли с гадливостью, однако для Риточки он был просто сослуживец, она была с ним мила и любезна, а самое поразительное, что и он с ней был опять весьма и весьма почтителен.
Жизнь кипела вокруг. Дом печати гудел как огромный механизм, части которого имеют разнообразные, порой даже противоречащие друг другу, но чаще всего вполне понятные, вполне личные и человеческие цели и назначение. Человеческие потребности и человеческие слабости значили в этой суете куда больше, чем соображения высокой литературы и даже высокой политики, чем указания свыше или, скажем, едва слышный гул, доползавший из котельной, который можно было принять и за дальний гул неизбежной войны. Евгеньев часто задумывался: чего больше было в реальности, в этой жизненной и неистребимой коррупции, в этом самообслуживании и низкой производительности труда — здоровой надежды на выживание или угрозы гибели? Его прогрессивные убеждения и его общая концепция побуждали его принять первое: он свято верил в то, что наш строй был самым прочным на земле, самым человечным и притом самым долговечным. Доказательством тому было для него неуклюжее подражательство Европы, ее завистливые имитирующие телодвижения, ее неуклонный крен влево.
Рита была одним из самых существенных винтиков в сложном механизме этого дома, гораздо более существенным, чем, скажем, он сам, или Юра Чухин, или Валевский, и, уж конечно, куда более существенным, чем легко заменяемый Владимир Капитоныч.
Иногда, украдкой бросая не нее взгляд, Евгеньев отмечал, как разительно она меняется в течение дня: то становится совсем маленькой, расплывчатой, вот-вот растает (именно такой она бывала в постели), то вдруг встает во весь свой росточек, распрямляется — и тогда видно, что она на самом деле не такая уж маленькая, что она довольно стройная, что она могла бы держаться властно, если бы случай, или, как говорили в старину, если бы она была в случае.
Заглянул Юра Чухин, сказал, что он уходит, так что комната будет совершенно свободна до конца дня. Владислав встал, подобрал свои бумажки («Свои говенные бумажки», — подумал он), пошел к двери. Рита подняла на него взгляд от телефона: она снова была маленькая, уютная, податливая… Евгеньев хотел сказать ей что-то очень важное и хорошее, словно его разнообразные мысли о ней требовали прощения, но не придумал ничего хорошего и вышел, ничего не сказав. Он решил, что еще успеет.
* * *Гена должен был отснять библиотеку Томского университета. Однорукий хранитель фондов приставил к московскому корреспонденту молодую и очень серьезную библиотекаршу. Она, наверное, привыкла водить экскурсии, потому что, дойдя до входа в хранилище, остановилась и стала деревянным голосом докладывать, когда был образован университет, какие библиотеки были закуплены им полностью, а какие подарены ему в те далекие времена, когда благотворительность еще была в моде. Поймав на себе чуть насмешливый Генин взгляд, она смешалась и сказала: