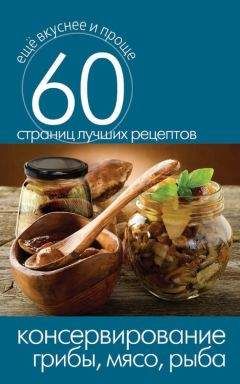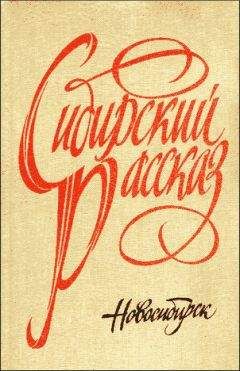Евгений Городецкий - АКАДЕМИЯ КНЯЗЕВА
– Еще б тебе жаловаться! – воскликнул Гаев. – Таким воздухом дышишь, такую воду пьешь – и еще надбавки получаешь! Это нам, горожанам, надо надбавки платить: за загазованность, за городской транспорт, за потолки два шестьдесят… Ишь! На здоровье он не жалуется…
Артюха от такого натиска опешил и, не найдя, что ответить, развел руками: виноват, дескать, но я за свое здоровье не отвечаю, это, так сказать, от природы.
Гаев любил поерничать, любил, чтобы ему отвечали в таком же ключе, поэтому пресная мина Артюхи его слегка раздосадовала. Отбросив шутливый тон, он заговорил с обычной своей ворчливой деловитостью:
– Аверьян Карпович, мы тут обменялись мнениями и пришли к выводу, что в пропаже аэрофотоснимков, по всему судя, виновен Арсентьев. Так сказать, был ослеплен неприязнью и все такое прочее. Вопрос второй, который мы хотели обсудить уже в твоем присутствии: кто взял эти снимки? Сам Арсентьев или кто-то другой?
Последние слова Гаев адресовал, главным образом, Нургису и Филимонову, поэтому Артюха не стал спешить с ответом: пусть вначале выскажутся руководители. Однако руководители в данном случае ничего определенного сказать не могли, им попросту нечего было сказать, не на кого указать. Снимки могли взять и Арсентьев, и любой другой человек… Но нет, обгорелый обрывок фото найден именно у дома Арсентьева, значит – он… Это ничего еще не значит, выкрасть снимки мог кто-то другой – выкрасть и передать потом Арсентьеву… Но зачем Арсентьеву лишний свидетель?.. Да, незачем…
– Товарищи, – спохватился Нургис и обвел всех недоумевающим взглядом – как это его раньше не осенило! – Мы забыли о дактилоскопии! На этом клочке могли быть отпечатки пальцев…
– Даже если бы они и были – что из того? – спросил молчавший доселе Павловский. – Где вы возьмете отпечатки пальцев всех сотрудников? Каждому будете стакан воды подавать? Начитались криминальных романов…
– М-да, – сказал Нургис и сконфуженно умолк.
Гаев тем временем поглядывал на Артюху, на серую коленкоровую папочку в его руках. Уж он-то знал: если тот пришел с папкой, значит, там что-то есть.
Павловский с раздражением в голосе продолжал:
– Аверьян Карпович, вам есть что сказать? Если нет – давайте закончим этот беспредметный разговор.
Артюха помедлил самую малость и положил папку на столик, прямо перед Павловским. И раскрыл ее. Там лежал листок бумаги, покрытый крупными каракулями, и целлофановый конвертик, а в нем – несколько обгоревших клочков плотной бумаги, судя по всему, – фотографий.
– Откуда у вас это?! – резко спросил Павловский.
– Все оттуда же. Из печки.
…Отправив две недели назад свою находку в управление, Артюха на этом не успокоился. Он вызвал к себе уборщицу, которая топила у Арсентьева и Пташнюка. Надо заметить, что технички и сторожихи боялись Артюхи пуще всякого другого начальства, и причиной тому были не только обитая железом дверь, решетки на окнах и сейфы, но и то, что уборку у себя в помещении Артюха разрешал только в своем присутствии. Поэтому, когда Артюха спросил уборщицу, как часто она выгребает золу и куда ссыпает, та сильно оробела, будто ее уличали невесть в чем, и пролепетала, что золу выгребает раз в три дня и ссыпает на помойку у дома. «Когда последний раз выгребала?» – «Вчерась».
«Вчерась» – это и был тот день, когда Артюха нашел обгоревший клочок. Оставалось надеяться, что в поддувале еще сохранилась зола, нагоревшая в тот день, когда злоумышленник сжигал аэрофотоснимки, а вместе с него – и новые улики.
Доверительно и одновременно строго Артюха наказал сегодня же, в рабочее время, пока хозяев нет дома, выгрести всю золу из обеих печей и поглядеть внимательно… Давая такое задание уборщице, Артюха рисковал, конечно, но не настолько, чтобы страх перед возможными последствиями заглушил в нем голос долга.
Уборщица вернулась через час. Вид у нее был такой, будто она все это время делала подкоп под здание госбанка. «Ну?» – спросил Артюха. «Вот», – ответила уборщица и достала из кармана бумажный сверток. В обрывок газеты были завернуты обгоревшие клочки аэрофотоснимков.
«Где это было?» – холодея от нахлынувшего ощущения удачи, спросил Артюха. – «У Дмитрия Дмитрича». – «А у Николая Васильевича?» – «Там ничего».
Аверьян Карпович продиктовал уборщице докладную на свое имя и отпустил ее с миром, многозначительно посоветовав не болтать языком. Когда уборщица ушла, он тут же справился у секретарши, где Пташнюк, и получил ответ, что Дмитрий Дмитрич позавчера вечером улетел на месяц в Курейскую партию.
…– Значит, он, – сказал Павловский. – Ай-ай, кто бы мог подумать… Хранил снимки у себя дома, а перед тем как уехать в командировку, сжег, чтобы в его отсутствие кто-нибудь их случайно не обнаружил… Вот вам и разгадка всех загадок.
– Нет, не всех! – Гаев сделал протестующий жест. – Эта разгадка – начало новых загадок. – Он повернулся к Нургису. – Какие отношения были у Князева с Пташнюком?
– М-м… Нормальные, надо полагать…
– Видите ли, – вмешался Филимонов, – Пташнюк камеральщиков почти не касался и в конторе бывал не часто… Во всяком случае, никаких стычек меж ними не было, это я точно знаю… Но Аверьян Карпович… Ну и скрытный же человек! Поражаюсь, до чего скрытный. Такими фактами владел – и ни гу-гу!
Сейчас, когда прошла первая оторопь и улеглась первая досада на себя за то, что искали похитителя не с того конца, у всех появилась еще большая досада на Артюху: знал же, кто сжег снимки, но молчал. Почему молчал? Филимонов, натура наиболее непосредственная, это недоумение за всех и высказал. Остальные глядели на Артюху выжидательно, тому ничего не оставалось, как объяснить свою скрытность. Он сказал:
– Я ждал, как отреагирует руководство на мой первый сигнал.
– И долго бы ждал? – усмехнулся Гаев.
– Недели две еще.
– А потом?
– Ну, там было бы видно, – уклончиво ответил Артюха.
– Ох и скрытный…- с восхищением повторил Филимонов. – Да, тебе можно секреты доверять…
Павловский сказал:
– Товарищи, седьмой час. Кроме разных мелочей, нам еще предстоит побеседовать с товарищем Князевым и… с Пташнюком. Но это – завтра, на свежую голову.
Он встал, и остальные поднялись, а Нургис – позже всех. На лице его было разочарование, он жаждал крови немедленно.
Павловский нажал кнопку звонка и сказал вошедшему Хандорину:
– Позвоните, пожалуйста, в больницу…
– Только что звонил. Сказали, что первая опасность миновала, но состояние тяжелое.
– Да-а… – Павловский помолчал. – Это не семечки… Будем надеяться на лучшее. Все свободны, товарищи.
Павловский и Гаев поужинали в чайной и теперь прогуливались по берегу Енисея, наблюдали с высокого обрыва бескрайнюю равнинную тайгу левобережья белую поверхность реки в торосах и застругах, вечерние краски неба. Гаев, истый горожанин, озирая дали, только головой покачивал да языком причмокивал то ли восторгался пейзажем, то ли по-хорошему завидовал провинциалам. Разговаривать не хотелось, и они в молчании шли неторопливо берегом, пока путь им не преградил овраг. Свернули к дороге, к мостику. Навстречу две мохнатые лайки тянули нарточки с березовым долготьем. Тесня друг друга боками, собаки семенили на подъеме, припадали к дороге, упряжь перепоясывала их. Они тянули не грудью, а бедрами, постромки проходили меж задних ног. Никудышный достался им хозяин.
Павловский неодобрительно взглянул на идущего следом за нарточками мужичка и сказал Гаеву, кивнув на собак:
– Так их, бедняг, и калечат. Лень нормальную упряжь сшить…
Гаев ничего не ответил, но вид измученных животных, реплика Павловского нарушили благостную умиротворенность от этой тихой вечерней прогулки. Когда миновали мостик, он спросил, возвращаясь к неоконченному разговору:
– Значит, ты полагаешь, что Арсентьев эту кражу санкционировал?
– Наверняка. Пташнюк – его правая рука, это давно известно.
– Думаешь, Пташнюк признается? Арсентьева продаст? Вряд ли…
– Роль Арсентьева тут и так очевидна, а Пташнюк – только исполнитель.
Назавтра комиссия продолжила работу. Снова все собрались в кабинете Арсентьева, а Хандорин занял свой охранный пост в приемной. Ждали Пташнюка, который должен был подойти с минуты на минуту. Ждали по-разному. Для Павловского и Гаева предстоящий разговор был лишь одним из многих расследований, которые они проводили, будучи членами парткомиссии, и к которым всегда старались подходить деловито и корректно. Нургис, как уже было сказано, жаждал крови. Пташнюка с его грубоватыми замашками он терпеть не мог, его бесило, что тот, выскочка, хозяйчик с неполным средним образованием, держится с ним, Нургисом, на равных, а в присутствии Арсентьева даже позволяет себе насмешки. Филимонов был уязвлен тем, что на его глазах рушились – в который раз! – доброе имя и авторитет руководителя. Пташнюку сейчас предстояло нести ответ за всех тех, кто эти высокие понятия не сберег. И, хотя Павловский предупредил, что работа комиссии не есть заседание местного комитета, посвященное какому-нибудь разбирательству, и что эмоции надо держать при себе, так как обвиняемый впоследствии обратит против комиссии любой ее промах, Филимонов готовился произнести гневное обличение и нетерпеливо ждал, когда ему представится такая возможность. Артюха был, как всегда, невозмутим, но испытывал сейчас то, что газетчики называют «чувством глубокого удовлетворения». Его убежденность в неизбежном восторжествовании справедливости еще раз подтвердилась, и радостно было сознавать, что он этой справедливости помог.