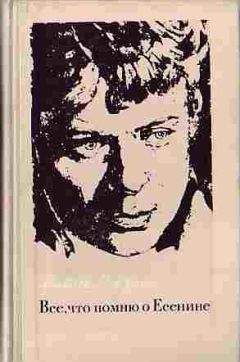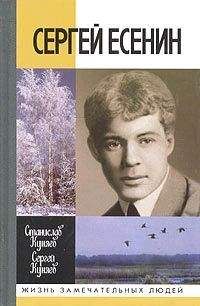Виталий Безруков - Есенин
— Пожалей себя, Моня! Скорее у тебя руки заболят и отсохнут, чем ты победишь Есенина!
Эта шутка сняла общее напряжение. Все облегченно засмеялись. Есенин как-то сразу успокоился. Смиренно опустив голову на грудь, он спросил: «Где Изадора?»
— Уехала в отель, я вызвала такси, — сказала, входя, Рашель.
— Развяжите меня, — попросил Есенин. Левин уже хотел развязать, но Мани-Лейб остановил его:
— Нет, Сергей, когда успокоишься, тогда развяжу. Пойдемте, пусть он тут полежит!
Евреи, опасливо обходя Есенина, стали выходить.
— Пить хочу! Пить дайте! — потребовал Есенин. Левин хотел было вернуться, но Рашель решительно выпроводила и его:
— Идите, идите, я его напою!
— Будь осторожна, Рахиль, оно кусается!
— И плюется!
— И fuck you! — кричали евреи, выходя в другую комнату.
Вновь заиграла музыка, послышался звон стаканов и женский смех. Рашель заперла дверь. Налив воды в бокал, она заботливо напоила Есенина и страстно поцеловала его.
— Твое счастье, что руки связаны, — задохнулся от поцелуя Сергей.
— И я не премину воспользоваться моим счастьем! — плотоядно улыбнулась Рашель. Она сорвала с себя платье и усевшись на Есенина, стала расстегивать ему рубашку…
Спустя какое-то время дверь в комнату, где гости продолжали «играть в богему», демонстрируя друг перед другом свободу нравов, отворилась и на пороге появился растерзанный Есенин, а за ним, ступая по-кошачьи, — Рашель. Все остолбенели, ожидая бури. Но Есенин, виновато склонив голову, подошел к Мани-Лейбу и обнял его.
— Монечка, поверь, я не антисемит… и не большевик! Ведь у меня дети от еврейки… Друзья лучшие, — поглядел он на Левина — тоже евреи! Какой же я после этого антисемит? Не злитесь на меня, евреи! — обратился он ко всем присутствующим. — Сами виноваты! Постарайтесь понять и простить, ведь все мы поэты-братья, — продолжал он, приводя себя в порядок. — Душа у нас одна, но по-разному она болит у каждого из нас…
Евреи, виновато отводя глаза, молчали. Есенин хотел было еще что-то сказать, но раздумал и только безнадежно махнул рукой:
— Домой поеду! Прощайте! — Он надел пальто, шляпу и вышел.
— Мой бог! Надо бы его проводить! Такси ему поймать, а то он языка не знает! — забеспокоился Мани-Лейб. Ветлугин сделал вид, что не слышит, а Левин спохватился и стал торопливо одеваться.
— Я его провожу! — тоном, не терпящим возражений, произнесла Рашель. — Ты, милый, занимай гостей, а за меня не волнуйся. Все будет о’кей! — Она вышла в коридор, накинула на плечи пальто и, пропустив вперед Левина, стала быстро спускаться по лестнице:
— Сергей Александрович! Есенин, подождите, я с вами!
Так оно и получилось: Айседора осталась ночевать у Мани-Лейба, а Есенин, в сопровождении Рашель, добрался на такси до гостиницы. В номере они выпили по бокалу шампанского, и Рашель помогла Есенину раздеться и уложила его в постель.
Собравшись уходить, она подошла к двери и остановилась в нерешительности. Снедаемая страстью, какое-то время она еще пыталась бороться с собой, но зов плоти победил. Заперев дверь, она подошла к телефону и дрожащими пальцами набрала свой номер. Когда в трубке раздался голос Мани-Лейба, Рашель спросила: «Как себя чувствует мадам Дункан?» «Спит», — последовал ответ. «А как Есенин?» — в свою очередь спросил муж. «Ему очень плохо!.. Если ты не возражаешь, я побуду с ним». «Я когда-нибудь тебе возражал, Рашель? Поступай как считаешь нужным, только будь осторожна… ты меня понимаешь?» — холодно сказал Мани-Лейб. Услышав частые гудки, Рашель положила трубку, быстро раздевшись, вошла в спальню и, погасив свет, юркнула к Есенину под одеяло.
Отоспавшись, Есенин с трудом припомнил все происшедшее накануне, — и ночь, проведенную с ненасытной Рашель, и скандал у Мани-Лейба. На душе было отвратительно, страшно болела голова, и весь свет был ему не мил… Приняв горячую ванну, он допил остатки шампанского и почувствовал некоторое облегчение.
Когда ближе к обеду приехала Дункан, Есенин молча обнял ее, такую тихую, по-русски смиренную. Они уже давно научились без слов понимать друг друга. И теперь, крепко прижавшись к мужу, Айседора беззвучно плакала, а Есенин, успокаивая, нежно гладил ее.
Из Америки надо было уезжать. Так блистательно начавшееся четыре месяца назад гастрольное турне «великой босоножки» провалилось. Айседора с Есениным это прекрасно понимали. Уже через несколько дней они поднялись на борт парохода «Джордж Вашингтон». Начавшийся было в октябре «праздник» не состоялся. Гастроли никаких доходов не принесли. «Под занавес» пресса постаралась навесить на Есенина ярлык «большевика и антисемита», а «красную» Дункан, за пламенные речи в защиту советской России, навсегда лишили американского гражданства. Среди немногих провожающих не было ни журналистов, ни поклонников с цветами. Только «жид» Веня Левин пришел проститься с Есениным. Единственный друг, которого русский поэт обрел на «отколотой половине земли».
Долго стояли на палубе отплывающей громадины два одиноких человека, глядя на постепенно растворяющуюся вдали «бабу с факелом» — американскую Свободу!
— Прощай, Америка! Прощай навсегда! — плакала Дункан. — Я больше никогда сюда не вернусь!
А Есенин как молитву шептал: «Россия! Россия! Душа моя!»
Глава 5
ЕВРОПА. ПАРИЖ, БЕРЛИН
Чувство горького разочарования и усталости не покидало Есенина ни на минуту. Он все еще переживал, что американцы не воздали должное его поэтическому таланту. Он уже не восхищался достижениями американской цивилизации. Сидя в каюте, с тоской поглядывал Есенин в иллюминатор на серое небо, на свинцовые волны и обдумывал свою жизнь, которая пошла не так, как он хотел. Никакой славы, кроме славы скандалиста, он в Америке не заработал. Отношения с Айседорой становились все более напряженными. «Чаша» великой любви, которую они демонстрировали пред фотокамерами, дала серьезную трещину. Из нее капля за каплей вытекала живительная влага этого божественного чувства. Прежде щедро наполняемая любящими сердцами Есенина и Дункан, она иссякала с каждым днем. Зато спиртное раздобыть на борту лайнера не составляло никакого труда, и Есенин все дни плавания редко бывал трезвым. Выпивка — лишь эта отрада оставалась ему. «Залив глаза» вином, можно было забыть обо всем на свете, «чтоб не видеть лицо роковое», «чтоб подумать хоть раз об ином».
В один из вечеров, когда Айседора уснула, осушив несколько бокалов шампанского, Есенин достал лист бумаги и «вечное перо», которое ему подарил, прощаясь, Мани-Лейб.