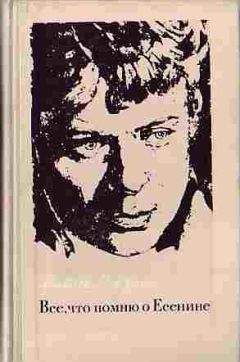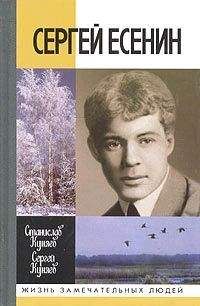Виталий Безруков - Есенин
«Милый Сандро!» — начал он письмо Кусикову, оставшемуся в Париже. Оглядев каюту, спящую Дункан, Сергей тяжело вздохнул и продолжил, аккуратно выводя отдельно каждую букву. «Пишу тебе с парохода, на котором возвращаемся в Париж. Едем вдвоем с Изадорой. Ветлугин остался в Америке. Америка дрянь ужаснейшая, внешним типом сплошное Баку, внутри Захер-Менский, если повенчать его на Серпинской…» Воспоминание об Америке, словно изжога, подкатило к горлу. Он судорожно сглотнул слюну. «Сандро, Сандро! Тоска смертная, невыносимая. Чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал в Африку или еще куда-нибудь». Есенин отложил ручку, вытащил из кармана свежую коробку папирос и, прикурив, вышел в коридор. Он прекрасно знал, что такое ВЧК и власть большевиков и что она уготовила лично для него. Прохаживаясь по пустому коридору, глубоко вдыхая едкий дым, Есенин строил догадки о том, что ждет его впереди, но все они были одна безрадостней другой. Бросив окурок в надраенную до золотого блеска латунную урну, Сергей вернулся в каюту. Поглядев на разметавшуюся во сне жену, он снова взялся за перо. «Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, и еще тошней переносить подхалимства своей же братии к ним. Не могу! Ей-богу, не могу. Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу. Теперь, когда от революции остались хрен да трубка, теперь, когда там жмут руки тем, кого раньше расстреливали, теперь очевидно, что мы были и будем той сволочью, на которую можно всех собак вешать». Слова, вылетающие из-под пера, становились все более откровенными. И не перед Кусиковым раскрывал он свою душу, а самому себе жестко и беспощадно говорил он правду, всю как есть. «Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянье» — сложились в голове поэтические строчки, а на бумагу легло другое: «Слушай, душа моя! Ведь и раньше, еще там, в Москве, когда к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть», — вспомнил Есении свою встречу с Троцким. «А теперь злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к Февральской, ни к Октябрьской. По-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь». Перечитав последние строчки, Сергей почувствовал тревогу: «А вдруг письмо попадет в ГПУ?» Он хотел было зачеркнуть написанное, но передумал. «Ну да ладно, оставим этот разговор про тетку (так между собой они называли ЧК). Пришли мне, душа моя, лучшее, что привез из Москвы нового, и в письме опиши все. Только гадостей, которые говорят обо мне, не пиши. Напиши мне что-нибудь хорошее, теплое и светлое, как друг. Сам видишь, как я матерюсь. Значит, больно и тошно». Есенин поставил точку и, не перечитывая, положил письмо в конверт и надписал: «А. Кусикову. Париж. Рю дела Помпе, 103». А в обратном адресе указал: «Атлантический океан, 7 февраля, 1923 г. Твой Сергей».
Приплыв наконец в Европу, во Францию, Есенин с Дункан тут же выехали в Париж. Вечером на перроне вокзала, под проливным дождем их встречали: Мери Детси, подруга, приехавшая из Лондона, Сандро Кусиков, Лина Кинел и несколько вездесущих репортеров, жаждущих поскорее выведать что-нибудь «жареное» у прибывших знаменитостей. Не успела Дункан спуститься по ступенькам вагона, как ее засыпали вопросами:
— Мадам Дункан! Несколько слов о ваших гастролях в Америке! Правда, что вас выслали как экспертов русской революции!? Конная полиция на ваших выступлениях — правда или выдумка? Почему вы одна? Большевистский поэт Есенин остался в Америке заложником?
Чтобы сразу пресечь всякие домыслы и сплетни, которые рано или поздно появились бы в газетах, Дункан разразилась страстной и откровенной речью:
— Я вернулась в Европу, чтобы отдохнуть и прийти в себя от преследований, которым я подвергалась со стороны американской прессы на всем протяжении своей поездки. Каждый раз, когда я приезжаю в Америку, они завывают вокруг меня, как стая волков! Они говорят, что я большевистский пропагандист. Это неправда. Я танцую те же самые танцы, которые я исполняла до того, как большевизм был изобретен. Газетчики заврались до того, что выдумали историю о том, как я на сцене сорвала с себя одежду и, размахивая ею, кричала: «Я красная!» Это все абсолютная ложь! Конная полиция — правда, она охраняла нас от восторженной публики! Мой муж Сергей Есенин прибыл со мной, вернее, мы вернулись вместе. Я вывезла Есенина из России, где условия жизни были чудовищно трудными, чтобы сохранить его гений для мира. Как сказал мне Горький о нем: «Со времен Гоголя и Пушкина у нас не было такого великого поэта, как Есенин». Увы, Пушкин был убит в молодом возрасте: судьбы поэтов отмечены печатью трагедии.
Дункан было не привыкать к длинным речам. Она любила и, главное, могла складно и темпераментно выражать свои мысли. Репортеры едва поспевали записывать ее откровения:
— И сейчас Есенин возвращается в Россию, чтобы сохранить свой рассудок, и я знаю, что многие сердца по всему миру будут молиться со мной, чтобы великий поэт был спасен для своих будущих творений, исполненных красоты, в которой мир столь нуждается!
И словно в подтверждение всему сказанному, в дверях вагона появился Есенин, действительно похожий на молодого бога с Олимпа. Златокудрый Лель улыбнулся, обнажив белый частокол зубов, и распахнул объятия:
— Ну вот, я уже в Европе! Привет, старушка Европа! Здравствуй, Париж!
Газетчики мгновенно переключились на Есенина.
— Первый вопрос, господин Есенин: мы сейчас выслушали целое заявление мадам Дункан. Хотелось бы узнать ваше мнение об Америке!
Есенин, увидев встречающих его Кусикова и Лину Кинел, приветливо помахал им рукой:
— Лина, привет! Спасибо, Сандро, что встретил!.. Я сейчас… только вот дам им всем «по мозгам», — кивнул он на репортеров. Он был чуть-чуть навеселе, и настроение у него было хорошее. Чтобы общаться свысока, Есенин не спустился на перрон, а уселся прямо на ступеньках вагона.
— Вам интересно мое мнение? Об Америке? — Он озорно сощурился. — Пишите: Америка — большая Марьина Роща, и больше ничего! Ужаснейшее царство мещанства, которое граничит с идиотизмом!
Лина Кинел улыбнулась, а Кусиков захохотал и зааплодировал. Они искренне, каждый по-своему, соскучились по Есенину и его хулиганским выходкам. А Сергей, увидев, что его наконец-то понимают и одобряют, стал резать репортерам правду-матку:
— Кроме фокстрота, там почти ничего нет. Там жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я там не встречал… в страшной моде господин доллар, на искусство начхать: самое высшее — мюзик-холл. Пусть мы, русские, нищие, пусть у нас голод, холод, зато у нас есть душа! И лучшее из всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва!