Джон Гарднер - Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
Но я сейчас говорю о более простых случаях второго зрения, с какими можно столкнуться где-нибудь в казино или на кухнях в Новой Англии. Не хочу сказать, что разбираюсь в этих делах, но из веревки, гвоздей и двух грибов, которыми со мной поделился гарпунщик Каскива, мне удалось сварганить некое подобие собственной теории.
Интуиция, шестое чувство — это религиозное переживание, бегство от плоского интеллекта в мир действительности, на родину души. Скажем так. У жителей Южных островов в Тихом океане, питающихся кореньями и грибами, есть странный опыт общения с природой: из разговоров с ящерицами, из ароматов диких цветов они получают ответы на вопросы, которые немыслимо разрешить ни одним из способов, доступных старому разбойнику Локку. Время и Пространство резвятся, то становятся остроумны и веселы, как Ариэль, то надуты и неловки, как Калибан в дурном расположении духа. Следствие предшествует причине, причины и следствия, пространственно отделенные друг от друга, не хотят разделяться во времени. Физический мир делается сумеречным, точно греза летучей мыши, а мир спиритуальный обретает плоть и плетется, бормоча себе под нос, или же, прямой и невозмутимый, как президент Линкольн, идет, печатая шаги ровно в один фут длиною. Для тех, кто не созвучен с такими вещами — для парижских рационалистов или маклеров с Уолл-стрит, занятых арифметическими выкладками, — рассказы о мистических переживаниях не более, чем детские сказки, может быть даже мошенничество, рассчитанное, как их собственные грандиозные планы, на обман доверчивой публики. Во всех наших обществах, от игорного клуба до китобойного судна, действует принцип достаточности — закон, который, сначала только диктовал, чем следует пренебречь в интересах успешного ведения данного дела, но в конце концов стал в сердцах изгонять и отвергать вообще всякую мысль, коль скоро она прямо не родит твердого, толстого банковского счета. Если сознание в целом — это бакалейная лавка со всем, что в ней имеется, до муравьев в хлебном ларе, до запаха оберточной бумаги и зеленого лука, до бечевки, тянущейся с мотка под потолком прямо над плешивой, очкастой головой мистера Примроуза, тогда интеллект — это кассовый аппарат, и выраженная словами мысль — бренчанье его дешевого железного звоночка. Расчленяя, точно вивисекторы, действительность, мы доходим до того, что всю вселенную, кроме головы да левой задней лапы, списываем, согласно чьему-то определению, в промышленные отходы. Но попробуйте пересадить нью-йоркского промышленника в Таллахасси, бросьте его там на три года проповедовать о добре и зле, или же поселите Джексона Каменную Стену в ирокезской деревушке и приезжайте посмотреть через полгода — это будут уже совсем другие люди. Мы основываем свою жизнь на благопристойных суждениях, но земной шар делает пол-оборота, выкатывает над нами Южный крест — и мы сжимаем зубы, боясь сойти с ума.
Правда ли, нет ли, что в этом мире есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам, но, ежели бы я вырос на Тихоокеанских островах, я бы сейчас наверняка судачил с ящерицами и брал интервью у колокольчиков. А живи я в Тибете, я бы после смерти сидел себе в уголке и задумчиво слушал, как пережившие меня читают над моим трупом «Книгу мертвых». Словом, все наши мнения и верования не более как дурацкие предрассудки, даже если какие-нибудь из них и верны, что, по-моему, крайне маловероятно. Или, говоря уже совсем выспренно, человеческое сознание в обычных случаях — это искусственная ограда, возводимая нами из понятий и теорий, пустой корабельный корпус, сколоченный из слов и ходячих мнений, а снаружи плещется огромный, всепожирающий океан. Борта отрезают меня от всего, что снаружи, даже от моего собственного тела, в котором я хожу, а сам рассматриваю его со стороны, как какую-нибудь колченогую собачонку или топорище, или хитроумного дикого индейца, или царя за шахматной доской. Один гриб или одно сильное чувство (такое, как любовь) могут разнести его на мелкие куски. Я сразу становлюсь безумцем, смутной тенью и неспособен от обалдения даже выправить закладную бумагу. Но я же и звездный путь, я — законный монарх в царстве, которое Нигде. Я играю королевский гамбит, и отныне нет в мире ничего лишнего, ненужного, зряшного — все плодоносит. Будущее для меня — это прошедшее, и прошедшее — настоящее. Я взглядываю на черные заводы Сатаны, на тягучие, липкие потоки. Я качаю головой. И их как не бывало.
Я с самого начала почувствовал, что с этим капитаном Заупокоем что-то не так. В нем ощущалась какая-то глубокая противоестественность, но, трепетать мне или брезговать, было неясно. Теперь, на старости, повидав кое-что в жизни, я могу сказать, что точно таких же людей, как он, на свете полным-полно, — людей одной идеи и крутого нутра, неукротимых и бестрепетных, как молотилка. Они — из ряда вон выходящие. Они — соблазнители юных мегаломанов. (Какой юноша согласится снизойти и поверить, что вся тайна мироздания в заурядности, в мягкости и просто доброте душевной, и что величайшее благо, к которому может стремиться человек, — это с утра пораньше поработать засучив рукава, а вечером опрокинуть стаканчик-другой в забегаловке за углом? Возможно ли, чтобы Время и Пространство в сговоре меж собой создали столь превосходную машину и не имели при этом более зловещих целей?)
Так вот, говорю, я с самого начала почувствовал, что с ним что-то не так. Я был убежден, что капитан Заупокой в некотором смысле безумен (странное заблуждение, но я тогда был молод и неопытен; я не представлял себе, как прихотлива и дика может быть вселенная), и не сомневался также, что безумие капитана успело еще до моего появления на судне заразить чуть не всю команду. «Однако что есть безумие? — спрашивал я себя, размахивая, точно аукционщик, деревянным молотком и предаваясь размышлениям в вороньем гнезде под самым солнцем. — Был ли безумен Гомер, воссылая проклятья войне, отрицая самые основы своего мира во имя жизни, не испробованной никем ни до него, ни после? Был ли безумен Текумсе, погибший из-за того, что отказался продать Конгрессу воздух, облака и море? Что есть безумие в конечном счете, как не бесконечное высокомерие, дерзкое и всегда ошибочное утверждение, будто человек — это бог, ибо высокий этот пост остается всегда вакантен?»
Сколько раз во время нашего плаванья (я забегаю вперед) я видел капитана у поручней на мостике — он стоял в парадном костюме (капитан Заупокой слыл среди китоловов франтом) и высматривал в морской дали то, что он там искал, или с каменным лицом читал Библию, или же, точно автомат, возносил молитвы, повернувшись спиной к палубе и забыв обо всем на свете; и всякий раз меня сотрясали противоречивые чувства, уместные разве что в античной трагедии. О чем они говорили между собой, он и девушка — его дочь, как я полагал? И говорили ли вообще? Сознавала ли она, сколь нелепо ее присутствие на борту китобойца? Или она тоже помешанная? А если еще не помешанная, то скоро помешается. Она ни с кем не разговаривала, насколько можно было судить. Никогда — за исключением одного того раза — не выходила из своей каюты, разве, может, крадучись, ночью, когда на палубе ни души. Знает ли она, как, кружась, уходят под воду китобойные суда со сломанными мачтами и перебитым хребтом и зависают в зеленом царстве мертвых, где нет ничего, лишь кости утопленников да пронырливые тунцы? Слышала ли она, бодрствуя в ночи, псалмопение рабов в трюме и, эхом к нему, другую музыку — таинственный голос океана?
Хоть я и не подозревал еще этого тогда, следуя за мистером Ланселотом в капитанскую каюту, но не я один в команде был в нее полувлюблен, вернее, влюблен в дантовский образ красоты и нежности, невкусимой, недоступной и поэтому в конечном счете нереальной. Метис Уилкинс, как я узнал много позже, несколько раз отваживался заговорить с нею. В конце концов на сцене возник исполинский дог, обладатель громового рыка, и разорвал Уилкинсу плечо. После этого ей больше никто не докучал. Правда — и это я также выяснил позже — с ней иногда разговаривал старший помощник мистер Ланселот, однако в последнее время он не слишком-то блистал в светской беседе. С капитанской дочкой он, как и с нами, услышав, что его о чем-то спрашивают, только улыбнется, поглощенный какой-то своей таинственной думой, покачает головой, подожмет губы и так ничего не скажет.
Мы с мистером Ланселотом, должен заметить, за это время успели сойтись ближе. В промежутках между охотой жизнь на китобойце тихая. Мистер Ланселот подходил туда, где я работал, и стоял, наблюдая за мной, и я, чтобы он не успокаивался на мой счет, болтал с ним о том о сем. Я рассказывал ему такие истории, от которых у человека, менее занятого собственными мыслями, глаза бы на лоб полезли. Толковал с ним о грабежах, убийствах и бог знает о чем еще. Он, конечно, верил каждому слову и в то же время не верил ничему. Он продолжал носить мне книги из капитанской каюты, и порой мы с ним вполне разумно беседовали на философские темы. Я еще в ранней молодости усвоил, что всякий человек, если только он не оголтелый фанатик одной идеи, может философствовать не хуже прочих. Меня убедили в этом бостонские фокусники и профессора шарлатанства вроде Флинта, которые незаметно связывали и развязывали узлы, совали зеркала на дно ящиков, стреляли, нажимали рычаги, а сами преспокойно разглагольствовали о взглядах Лейбница, Маркса или Винкельмана. Мистера Ланселота интересовали самые разные вещи. У него был ум как овчина: не острый, не целеустремленный, но застрянет в нем какой-нибудь репей, так уж накрепко. Любознательность его возбуждали чудеса животного и растительного мира. Он немало приметил в жизни явлений разрозненных, но любопытных. Обратил внимание, как видоизменяются клювы и когти с изменением широт к югу и к северу от экваториальной зоны. Познакомился с забавными теориями Гёте из «Metamorphose der Pflanzen» и с теорией «органической силы» Мюллера. Слышал что-то такое насчет того, что будто бы яйца испытывают страх, а растения умеют чувствовать и знают о приближении друга — человека ли, паука — за много миль.
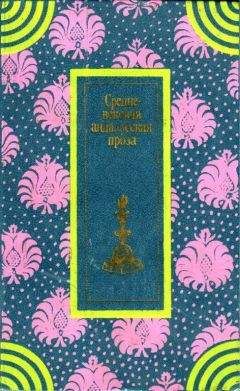
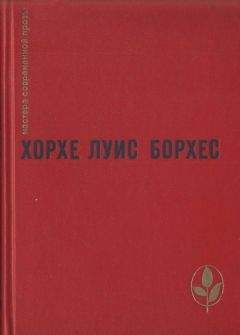
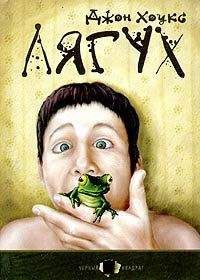
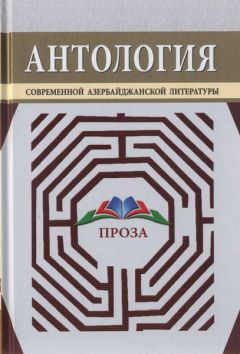
![Джон Уиндем - Паутина [ Авт. сборник]](/uploads/posts/books/60251/60251.jpg)