Джон Гарднер - Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы

Обзор книги Джон Гарднер - Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
Джон Гарднер
Никелевая гора
Пасторальный роман
© Перевод Е. Короткова
Посвящается Джоан
I. НИКЕЛЕВАЯ ГОРА
В декабре 1954 года Генри Сомс и не подозревал, что его жизнь лишь начинается. Барахлило сердце, дела в «Привале» шли из рук вон плохо, он был на грани нервного срыва.
Временами, если не хотелось читать, он стоял у окна и смотрел на снег. В непогожие вечера снежные хлопья стремительно вырывались из окутывающей горный склон темноты в голубоватый свет, падавший из окон «Привала», искрились в розовом сиянии неоновой вывески и снова уносились в темноту, в лес, черневший по другую сторону шоссе. Генри Сомс пощипывал губу — буря чем-то и пугала, и влекла его. В сумятице хлопьев ему мерещились очертания человеческих тел, чаще всего его собственного, громадного, неуклюжего, но, случалось, чудился какой-нибудь зловещий незнакомец. Хотя стоял он в смежной комнате, в жилой пристройке, ему слышно было, как в закусочной тикают большие часы, и он представлял себе красную и синюю стрелки и бессознательно пытался прикинуть, который час — двенадцать, час, четверть третьего… Но вот он, наконец, укладывался в постель; лежал, массивный, как гора, и лишь ноздри и губы слегка шевелились, когда что-то снилось.
Этой зимой он радовался посетителям, даже если они поднимали его среди ночи. Свет в «Привале» горел с вечера до утра, и все знали, что Генри не против того, чтобы его будили. Закусочная Генри Сомса была последней на шоссе до самых пригородов Слейтера — просто спасение для тех, кого застигла непогода. Генри кричал из своей комнаты: «Иду, иду», — натягивал халат и, помаргивая, спешил к стойке, орал: «Хороша погодка для белых медведей!» — смеялся, щурясь спросонья, и хлопал по плечу позднего посетителя. После двух ночи обычно заезжали пьянчуги — старики, беззубые или почти без зубов, с печеночными пятнами на коже, давно не стриженные. Чаще других бывал один старик, русский, а может, поляк, грузный, величественный, по фамилии Кузицкий. Он торговал утилем. Ездил он на стареньком синем грузовике, на дверце которого были написаны фамилия и телефонный номер владельца, всегда носил костюм с жилетом, зимой же черное пальто, в незапамятные времена купленное у кого-то по дешевке в автопарке в Новом Карфагене. У него была медлительная тяжелая походка: не подумаешь, что пьяный, — просто человек задумался. Он торжественно усаживался и погружался в раздумье, немного погодя снимал и клал на стойку шляпу и лишь тогда учтиво просил кофе. В усах его поблескивали крошечные ледышки. Генри приносил ему кофе, себе же ломоть яблочного пирога, и ел тут же за стойкой, глядя, как старик льет в кофе виски и пьет. Когда Кузицкий приканчивал вторую чашку, Генри иной раз жаловался ему на сердце.
— Мне сказали, я не проживу больше года, мистер Кузицкий, — говорил Генри. — Один сердечный приступ у меня уже был. — Голос его звучал довольно бодро, но старик, конечно, видел, что Генри боится. — У меня бывают головокружения, — добавлял он.
Кузицкий печально кивал головой и, помолчав, учтиво говорил:
— С моей сестрой была такая же история.
Генри Сомс встряхивал головой, смотрел в окно на снег и, помолчав, с коротким смешком говорил:
— А, все там будем.
Бывало, разговор тем и кончался. Но чаще он не мог остановиться. Наверно, он не сознавал, что уже не раз говорил все это теми же словами, таким же пронзительным голосом; а уж старик Кузицкий не сознавал этого и подавно.
— Жуть какая-то. В это просто невозможно поверить, вот в чем главная подлость. Мне говорят: «Сбрось девяносто фунтов, и еще двадцать лет проживешь». Но как это сделать? — Генри встряхивал головой. — Ни черта не поймешь в этой жизни. — Он отворачивался, искоса глядел в окно и пробовал понять, что же это за штука жизнь, ощущая ее глубину, но не умея ничего выразить словами, даже про себя. Мелькали какие-то смутные образы: дети, деревья, собаки, красные кирпичные дома, люди, которых он знал. Он ничего не чувствовал, только тяжесть да в груди немело.
— Замуж ее никто не брал, — твердил свое старик Кузицкий. — Хоть погружай на мой драндулет да вези на свалку. Ха-ха.
Генри, насупившись, жевал пирог, облокотившись о стойку, смотрел на свои волосатые ручищи и, чтобы заполнить тишину, опять начинал говорить. Сперва он говорил спокойно. Он рассказывал об отце — и у его отца была такая же история, — говорил о том, как часто не удается выполнить намеченное, побывать в тех местах, куда собирался, повидать, что задумал.
— Господи, боже, — говорил он и встряхивал головой.
Потом Генри начинал шагать по комнате. Мистеру Кузицкому от этого делалось не по себе, но Генри уже не мог остановиться. От этих полуночных разговоров его начинал глодать какой-то голод. Мало-помалу он возбуждался, все торопливей сыпались слова, и при этом обнаруживалось одно его свойство, незаметное в обычной обстановке, — на Генри нападали приступы странного неистовства. Словно пьяный, колотил он себя кулаками в грудь, и голос его становился все пронзительней и громче, и, случалось, он останавливался, чтобы с силой ударить по стойке или по столу, или хватал сахарный автомат и сжимал в поднятой руке, будто замахивался. Мистер Кузицкий старался сидеть прямо и опасливо следил за поднятой в воздух коробкой. Генри, наверно, понимал, как бесполезны его попытки облечь в слова то смутное, ускользающее от понимания, что ему хотелось выразить. Он умолкал, пытаясь гордо, без боязни смотреть смерти в глаза. Но он был слаб и беспомощен, как ребенок, особенно в такие вот глухие часы ночи, и он хватал вдруг старика за плечо, наклонялся к самому его лицу и уже не кричал, а шипел по-змеиному. Из его выпученных глаз выкатывались слезы и сбегали на небритые жирные щеки. Кузицкий опускал глаза и отстранялся, держась за стойку.
В ту зиму это случалось сплошь и рядом, но почему-то всякий раз неожиданно. Потом, потрясенный, пристыженный, Генри просил извинения и поносил себя. Он закрывал лицо руками, тер глаза, как медведь, иногда плакал, уткнувшись в стойку, а Кузицкий поднимался с места и пятился к двери.
— Я вам обещаю, я об этом никому не расскажу, — говорил Кузицкий.
— Спасибо, я знаю, я могу вам верить, — всхлипывая, отвечал Генри.
— Ни единой душе, никому, даю вам слово, — повторял Кузицкий и удалялся, медлительный, тяжеловесный. Генри видел, как трепыхаются на ветру полы его черного пальто, и его пронзала жалость к старику.
Давая обещание молчать, Кузицкий не кривил душой: он вообще-то сочувствовал Генри да к тому же боялся его рассердить и потерять доступ в «Привал», тогда бы ему после закрытия питейных заведений некуда было бы податься в зимнюю ночь, разве что домой. Тем не менее он забывал о своем обещании, и со временем пошли разговоры, что Генри Сомс не в себе. С ним обращались преувеличенно вежливо и слишком часто справлялись о его здоровье. Скоро секрет, известный только старику Кузицкому, стал достоянием всех. Говорили, что на Генри Сомса находят припадки бешенства — не то чтобы его совсем уж не жалели, но все же это как-то стыдно и, если хорошенько вспомнить, это не в одночасье с ним случилось. Сколько раз, бывало, он запирал в жаркую летнюю ночь закусочную, садился в старый «форд» и очертя голову мчался с грохотом и ревом вверх по Никелевой горе, словно решил покончить счеты с жизнью, а заодно и гору покалечить. Но сам Генри ни о чем таком не думал. Он смотрел на снег, а «фордик» стоял в гараже, занесенном сугробом; Генри ждал. Затем пришла весна.
2Девушка появилась как по волшебству, словно крокус из-под снега.
С ее отцом и матерью он был знаком много лет, а потому, конечно, и ее знал тоже, видел, как она растет. Когда ее отец явился подготовить почву и сказал, что утром может зайти Кэлли, справиться насчет работы, в представлении Генри возникла одиннадцатилетняя Кэлли, угловатая девочка с большими ступнями и лошадиным лицом, которая в нерешительности топталась у стойки, не зная, какое лакомство выбрать. Но сейчас ей было шестнадцать, еще не взрослая, но уже не ребенок, и, как все молодые, она показалась ему прекрасной и печальной. А может, просто такая была погода, всю неделю пахло весной, пробуждались к жизни бурые горные склоны, зашевелились корни, и где-то неподалеку, южнее, уже набухли почки.
Она была высокой, как отец, и лицом в него пошла, резкостью черт — нос, щеки, уши словно выструганы из дерева. Но нежная кожа, задорная посадка головы и глаза — это все ей досталось от матери. Особенно глаза, подумал Генри. Они были серые и смотрели пытливо, дружелюбно, но в то же время словно что-то прикидывая. Генри чувствовал себя неловко под этим взглядом, так же как под взглядом ее матери.
— Что это, Кэлли, тебе вздумалось работать в закусочной? — спросил он.
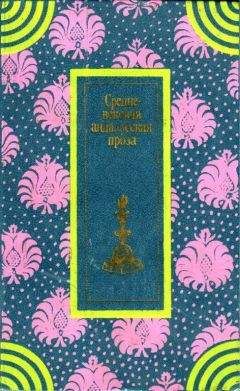
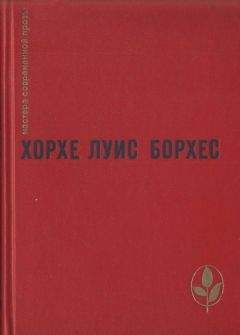
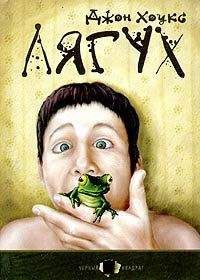
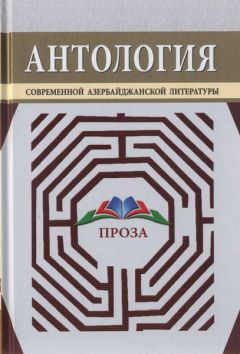
![Джон Уиндем - Паутина [ Авт. сборник]](/uploads/posts/books/60251/60251.jpg)