Джон Гарднер - Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
В тот вечер он подошел ко мне, хитро озираясь, в руке он держал два обрезка троса. Сел осторожно на краешек моей койки, стал рассеянно завязывать и развязывать какие-то узлы, ухмылялся, смущался, будто школьник из моего класса, и, наконец собравшись с духом, произнес:
— Это обычное дело… на мачте… один шаг в Никуда. Не теряй курса, вот и весь секрет. — Он пожевал губами, закатил глаза в поисках слов, способных выразить его мысли. Наконец медленно, вдумчиво проговорил. — Твердо знай в глубине души, на чем стоишь, пусть тебе даже там и не нравится, и не позволяй своим мыслям уходить в Никуда, не верь в него, в это Никуда. Как по натянутой проволоке через пропасть. Гляди прямо и далеко вперед. А коли не можешь не думать, думай о вере. Пой псалмы или рассказывай про себя библейские истории. Если станешь представлять себе проволоку, по которой идешь шаг за шагом, и как ты переступаешь ногами, тут же вниз-то и ухнешь камнем — бух! Вера, в ней весь секрет! Безоглядная вера, как у чайки.
Я с чувством поблагодарил его за спасение моей жизни и пообещался держать в уме его советы. Он поглядел на носки башмаков, обдумывая эти слова, потом снова поднял взгляд на меня.
— Для пирата ты узлы вяжешь — из рук вон, — сказал он. И подмигнул.
Стало быть, он все время был с ними заодно, подумал я. Но лицо у него было как у херувима. Может быть, подумал я, это ошибка, что я как черта боюсь безобразного Уилкинса и чувствую себя в полной безопасности рядом с Билли Муром? От Благочестивого Джона я усвоил один урок: никогда не торопись решать, где в этом мире правда, а где — видимость. На всякий случай я стал постоянно носить при себе острую свайку и в первый же удобный вечер выдолбил тайник в переборке за койкой, где мог теперь прятать свои пожитки понадежнее, чем в матросском рундуке. Тайник получился просто замечательный, надо было только чуть сдвинуть узкую доску, и не столь уж важно, что прятать в него мне было нечего, кроме пустого кошелька и промокших часов на золотой цепочке.
На следующее утро я снова полез на мачту, помня совет Билли Мура о том, чтобы не думать про Никуда и сосредоточить все мысли на вере. Умен ли, глуп ли был этот совет, однако сработал он превосходно. С тех пор я больше не испытывал ни малейшего страха и на самой высокой бом-брам-рее. А через неделю я уже отсиживал в очередь с остальными вахту в вороньем гнезде, высматривая на горизонте китов.
Тут, должен сказать, для меня тоже была заключена тайна: неизвестно, по какой причине, но капитан Заупокой, прежде ко всему такой равнодушный, вдруг воспылал пламенным желанием во что бы то ни стало добыть кита. Может быть, его подстегнуло постоянное ворчание команды, так давно находившейся в плаванье, до сих пор бесплодном. Однако мне поневоле думалось, что этот полный поворот наступил что-то уж слишком внезапно и сразу же после замечания Билли Мура о том, что в прошлом рейсе капитан был другим человеком. Как бы то ни было, но теперь день и ночь снова и снова слышался с палубы оклик капитана — с порога капитанской каюты, из неразличимой темноты он кричал дозорным на топах мачт, чтобы они, если им дороги носы, хорошенько смотрели вокруг и подавали голос, лишь только завидят хоть тень дельфина. Вся команда вздохнула с облегчением, оттого что капитан снова стал — или почти стал — самим собой.
И ждать капитану Заупокою, как оказалось, долго не пришлось. На сорок первый день — шестнадцатый день в Тихом океане — с неба упал вопль:
— Вижу фонтан! Эй, вон фонтан!
И откликнулся суровым вопросом первого помощника:
— В какой стороне?
Весь корабль вдруг словно проснулся, все забегали, закричали, бросились спускать вельботы. Все — кроме капитана, который, как видно, был слишком тяжело болен.
— Хвост показал! — упал вниз крик из вороньих гнезд.
Но я не собираюсь утомлять вас китовой охотой. Довольно сказать, что они приволокли наконец добычу — могучего кашалота гигантских размеров и хитроумного облика. Длиною с судно, он мог бы ударом хвоста отправить всех нас на дно морское, а зубы его могли служить платоновским символом падения цивилизации. Вернулись с добычей, хотя капитан так и не вышел из своей пещерно-черной каюты; но и я тоже оказался в некотором смысле с добычей. Черные рабы, в существование которых я упорно верил вопреки издевкам Уилкинса и прочих и вопреки немому, подразумеваемому отрицанию старшего помощника мистера Ланселота, теперь сновали среди нас, звеня цепями, рубили, резали, тянули, волокли, зловеще распевая свое «Сойди с горы, Моисей». Так вот, значит, как, подумал я. Старик позаботился увеличить свою долю дохода таким примитивнейшим, древнейшим, подлейшим в свете способом. Не удивительно, что он их прятал. Ведь это все вольнолюбивые американцы, матросы и офицеры «Иерусалима» — включая и заморских дикарей-гарпунеров. Уже один смущенный вид мистера Ланселота или откровенно огорченное выражение на лице моего друга Билли Мура могли бы убедить капитана Заупокоя в том, что, чем меньше будет разговору о его рабах, тем лучше. Даже второй помощник Вольф, маленький злой немец, у которого были прямые, как пшеничная солома, волосы и явно дурной глаз, а сострадания в сердце не больше, чем у ведьмы на помеле, даже он неодобрительно поджал губы. Мой знакомец старый Иеремия стоял, облокотясь, на поручни штирборта и смотрел на нас своими невидящими белыми глазами.
— Мертвецы, — произнес он с белладоновой улыбкой.
У меня возникло предчувствие, твердое и ясное, как геометрическое понятие, что это его слово окажется пророческим. Но даже и с Иеремией я считал нужным хитрить, руководствуясь знаменитой максимой Дейви Кроккета: «Коли он не знает, что я сижу на дереве, он, поди, станет искать меня в Питтсбурге». Точно нахальный молодой капитан галеры, я встал, руки в боки, шапка на затылке, и говорю: «Ох уж эти ихние песнопения, сэр. Вот где они похоронили свою историю и вот чем питают свои хитрые заговоры». И я цинически рассмеялся. Иеремия стоял и, казалось, грустно размышлял о чем-то другом, что доступно только человеку с двойным зрением. Я стал плести ему дурацкие небылицы о том, как продавал и покупал рабов в Сан-Луисе и как меня однажды в Новом Орлеане чуть не укокошил спьяну один черномазый — напился, видите ли, забродившей патоки. Но старик тихо отошел прочь, и я остался разглагольствовать перед самим собой. Я прикинулся, будто не заметил его ухода. В лакированном поручне фальшборта я разглядел отражение кумачового платка — это Уилкинс, затаившись за вельботом, подслушивал меня, как хитрый Братец Лис из негритянских сказок. И я, как неунывающий Братец Кролик, продолжал ораторствовать в пустоту.
На следующее утро мистер Ланселот пришел туда, где мы с Билли Муром латали на палубе парус. Он постоял, глядя на нас сверху вниз ни дружески, ни враждебно, поглощенный своей скорбной заботой. Я ожидал, что он заговорит с Билли. Ведь я, кажется, уже рассказывал, что я часто видел, как они переговаривались, вроде шептались о чем-то. Но мистер Ланселот неожиданно обратился ко мне:
— Мистер Апчерч, вас желают видеть в капитанской каюте.
Я взглянул на Билли Мура. Он ухмылялся, на крепких веснушчатых щеках играли желваки.
— Поговори там на оккультные темы, — посоветовал он. — Капитан в этих делах дока.
Я посмотрел на мистера Ланселота — взгляд его был все так же рассеян и хмур, забота заострилась в нем, будто кунье рыльце. Я опомнился, вскочил на ноги и щелкнул каблуками. Мистер Ланселот в задумчивости повернулся и пошел впереди меня в капитанскую каюту.
XIIНе удивлюсь, если лет через сто или двести ученые откроют, что у всякого смертного есть дар ясновидения — второе зрение, есть свое царство чистого духа, мирное и не очень-то доступное, как, скажем, к примеру, Лапландия. Толковать здесь о старом корабельном пророке Иеремии вроде бы ни к чему, только тень на плетень наводить, но ей же ей, не я один, любой на «Иерусалиме» поклялся бы вам, окажись вы как раз тогда на борту, что, слепой-то слепой, и немощный к тому же, он был капитану дороже, чем все мы, вместе взятые. Он будто бы своим вторым зрением видел, где плавают киты. Он и не то еще видел, как я в конце концов убедился. Правда, может быть, он нас дурачил, это я допускаю. Но если все его искусство только инсценировка, только, так сказать, зеркала да блестки, как у тех бостонских шарлатанов (шарлатан-то он был так и так), ну что же, тогда пройдохи ловчее не рождалось на земле, вот все, что я могу вам ответить.
Но я сейчас говорю о более простых случаях второго зрения, с какими можно столкнуться где-нибудь в казино или на кухнях в Новой Англии. Не хочу сказать, что разбираюсь в этих делах, но из веревки, гвоздей и двух грибов, которыми со мной поделился гарпунщик Каскива, мне удалось сварганить некое подобие собственной теории.
Интуиция, шестое чувство — это религиозное переживание, бегство от плоского интеллекта в мир действительности, на родину души. Скажем так. У жителей Южных островов в Тихом океане, питающихся кореньями и грибами, есть странный опыт общения с природой: из разговоров с ящерицами, из ароматов диких цветов они получают ответы на вопросы, которые немыслимо разрешить ни одним из способов, доступных старому разбойнику Локку. Время и Пространство резвятся, то становятся остроумны и веселы, как Ариэль, то надуты и неловки, как Калибан в дурном расположении духа. Следствие предшествует причине, причины и следствия, пространственно отделенные друг от друга, не хотят разделяться во времени. Физический мир делается сумеречным, точно греза летучей мыши, а мир спиритуальный обретает плоть и плетется, бормоча себе под нос, или же, прямой и невозмутимый, как президент Линкольн, идет, печатая шаги ровно в один фут длиною. Для тех, кто не созвучен с такими вещами — для парижских рационалистов или маклеров с Уолл-стрит, занятых арифметическими выкладками, — рассказы о мистических переживаниях не более, чем детские сказки, может быть даже мошенничество, рассчитанное, как их собственные грандиозные планы, на обман доверчивой публики. Во всех наших обществах, от игорного клуба до китобойного судна, действует принцип достаточности — закон, который, сначала только диктовал, чем следует пренебречь в интересах успешного ведения данного дела, но в конце концов стал в сердцах изгонять и отвергать вообще всякую мысль, коль скоро она прямо не родит твердого, толстого банковского счета. Если сознание в целом — это бакалейная лавка со всем, что в ней имеется, до муравьев в хлебном ларе, до запаха оберточной бумаги и зеленого лука, до бечевки, тянущейся с мотка под потолком прямо над плешивой, очкастой головой мистера Примроуза, тогда интеллект — это кассовый аппарат, и выраженная словами мысль — бренчанье его дешевого железного звоночка. Расчленяя, точно вивисекторы, действительность, мы доходим до того, что всю вселенную, кроме головы да левой задней лапы, списываем, согласно чьему-то определению, в промышленные отходы. Но попробуйте пересадить нью-йоркского промышленника в Таллахасси, бросьте его там на три года проповедовать о добре и зле, или же поселите Джексона Каменную Стену в ирокезской деревушке и приезжайте посмотреть через полгода — это будут уже совсем другие люди. Мы основываем свою жизнь на благопристойных суждениях, но земной шар делает пол-оборота, выкатывает над нами Южный крест — и мы сжимаем зубы, боясь сойти с ума.
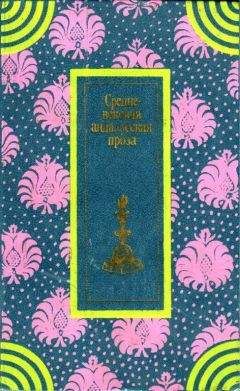
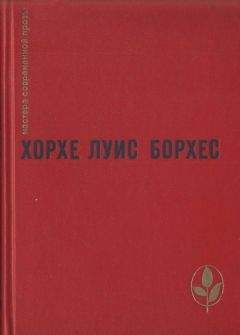
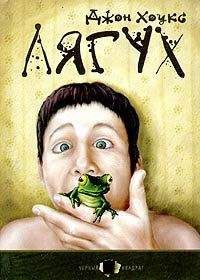
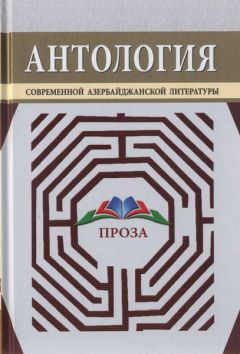
![Джон Уиндем - Паутина [ Авт. сборник]](/uploads/posts/books/60251/60251.jpg)