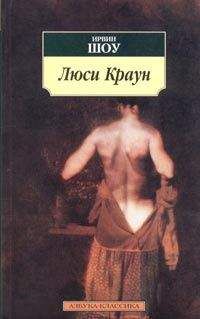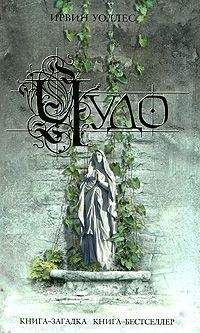Ирвин Шоу - Две недели в другом городе
— На самом деле я засмеялся потому, что, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, я точно так же ответил бы на подобный вопрос.
— Вы зарыли в землю свой талант, — сказал Брезач. — Почему?
— Будь вежлив, Роберт, — вмешался Макс. — Тебя никто не хочет обидеть.
— Почему? — повторил Брезач, не обращая внимания на Макса.
— Я напишу тебе длинное письмо, — сказал Джек.
— На что вы его променяли? На вашу работу в Париже? — Брезач рассмеялся. — НАТО — организация выживших из ума старцев, делающих вид, будто они способны спасти мир с помощью парадов, воинственных заявлений в прессе, и смущенно замолкающих, когда у дверей кабинета раздается грубый смех реальности. Что вы сделали, Джек, когда танки вошли в Будапешт? Где вы были, когда английский флот появился у входа в Суэцкий канал? Какой блестящий план разработали, когда десантники пытали алжирских феллахов? Выступили ли вы с гневным осуждением мистера Насера, который стравливает всех и вся? Я вас знаю. Я всех вас знаю… — разгневанно произнес Брезач. — Вы — мягкотелые, сладкоголосые, безмозглые интриганы, просиживающие свои штаны в надежде на то, что ваша болтовня на приемах заглушит грохот ядерных испытаний, тиканье мин, стоны раненых, истошные крики тех, кого убьют, пока вы пьете очередной мартини…
— Я делаю то, что в моих силах, — сказал Джек, не совсем веря в искренность своих слов; яростные нападки Брезача, прозвучавшие как эхо письма, присланного Стивеном, потрясли его. — Черт возьми, любое занятие лучше, чем участие в съемках тех идиотских фильмов, в которых я играл.
— Нет, — громко возразил Брезач. — Вы были хорошим актером. Честным. Вы не становились частью бездумно-оптимистичного заговора. Если вы не спасали других, то вы спасали хотя бы себя. С вами число спасенных душ на земле возрастало на единицу. Это не смешно. Вы излучали свет. А что теперь? Вы тратите жизнь на то, чтобы повергать мир в политический хаос и мрак милитаризации. Скажите честно, Джек: когда вам было двадцать два и вы снимались в первой картине, стали бы вы вести себя так, как сейчас ведете себя в Риме?
— Когда мне было двадцать два, я тоже спал с девушками, если ты это имеешь в виду.
— Вы прекрасно знаете — я о другом. Вы сейчас женаты, да?
— Тебе известно, что женат.
— Что вы говорите своей жене? — спросил Брезач. — Вы говорите, что любите ее?
— Довольно, — оборвал его Джек. — Вернись к политике.
— Ладно, — рассудительным, дружеским тоном продолжил Брезач. — Вы говорите, что любите ее. Но в ваших словах присутствует некая мысленная натяжка. Выразим ее численно. Десять процентов? Двадцать? Что скажете? Две недели вы проводите в Риме, потом служебная командировка в Лондон или Нью-Йорк, а Вероник везде полно, и у меня совсем нет уверенности в том, что вы ведете целомудренную жизнь в Париже…
— Роберт, ты начинаешь оскорблять Джека, — сказал Макс.
— Мы с Джеком перешли за грань оскорблений. Мы вплотную приблизились к точке убийства. Находимся у той черты, когда в глазах пылает правда.
Он снова повернулся к Джеку.
— Так вот, вся ваша жизнь построена на системе ограничений. Вы признаете обязательства любви, но строго ограниченные. То же самое справедливо в отношении вашей работы, но отдаваться ей полностью стал бы только полный кретин. Вы — человек с разорванной душой, современный, бесчестный, бесполезный, ненадежный варвар. Я выражаюсь слишком резко?
— Да, — сказал Джек. — Продолжай в том же духе.
— Поговорим о религии. Где еще обсуждать эту тему, если не в Риме? Вы верующий человек?
— Нет.
— Бываете в церкви?
— Иногда, — сказал Джек.
— А, — протянул Брезач, — ну конечно. Вы же государственный чиновник. С тех пор как у власти оказались республиканцы, путь наверх для ваших коллег проходит через храмы. Вы верите в Бога?
— На этот вопрос я отвечать не стану. Учти, у меня мало времени. Через несколько дней я улетаю в Париж.
— Кто вы, хотя бы номинально? Протестант?
— Лютеранин, — ответил Джек, — если не атеист.
Брезач кивнул:
— Если не атеист. А ваша жена?
Джек заколебался:
— Она католичка.
— А дети?
— Сейчас они ходят к мессе.
— Ага, — с холодным торжеством произнес Брезач. — Сейчас они — жертвы предрассудков, подавления духа, кровавых мифов, нетерпимости, темноты, идолопоклонничества, словом, всего того, что ненавистно их отцу. Сейчас. Вы видите, Макс, — Брезач посмотрел на венгра пылающими глазами. — Тот, кто из всего страждущего человечества надумал спасать именно меня, даже не имеет мужества открыто заявить о своем атеизме, отказывает себе в мало-мальски честном поступке, который позволил бы ему хранить верность его отсутствующему Богу. Он ловкач и приспособленец. Последите за ним, и вы застанете его определяющим направление ветра с помощью облизанного пальца. Иногда он чуть ли не крестится. Хуже того, он позволяет креститься своим невинным и беспомощным детям. Он вечно колеблется, балансирует, улыбается, терпя поражение, смеется над своим талантом, который не сберег, проскальзывает, словно угорь, через сети общества, наживается на том, что человечество боится взлететь в воздух, изменяет жене во время поездок, предает себя при каждом вдохе. Естественно, дамы его обожают и падают к его ногам, потому что он отдает им только часть себя; какая женщина устоит перед человеком, который всегда частично отсутствует? Он ложится в чужую постель так же, как заходит в церковь — не веря в Бога, не получая удовольствия от пения хора, единения с молящимися; аминь, раздвинутые ноги, аминь, кончил, аминь, принял душ, аминь, женат, неженат, аминь, аминь!
— Трезвый он тоже так говорит?
— Очень часто, — ответил Макс.
— Вы с ним, вероятно, не скучаете, — заметил Джек.
— Не шутите, — резко сказал Брезач. — Я на вас нападаю. Придет время, и вы почувствуете силу моих ударов, вы будете рыдать от боли и сожаления…
Он взял большую деревянную перечницу и посыпал перцем кусок сыра, лежавший перед ним на тарелке.
— Его делают из молока буйволицы, — сообщил он светским тоном. — Вы это знали?
— Нет, — ответил Джек.
— Я всегда мечтал жить там, где доят буйволиц, — продолжал Брезач, воткнув вилку в большой кусок сыра и поднеся его ко рту. — Мы у себя в Америке избавились от буйволов и Чарли Чаплина. Хвала Макгрейнери.
— Не заводись, Роберт, — сказал Макс.
— Так вот, когда я поправился, — спокойно произнес Брезач, словно он и не прерывал своего рассказа, — я вынудил мать заложить кольцо и дать мне денег на дорогу в Италию. Я пообещал ей: не найду за год стоящую работу в кино — вернусь домой, посвящу свою жизнь комиксам и буду чтить отца и мать, как подобает порядочному сыну. Кстати, Эндрюс, а чем занимался ваш отец?