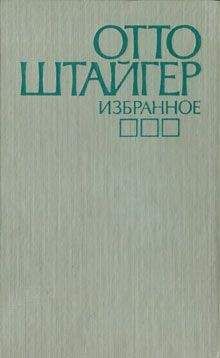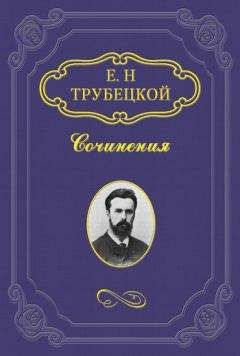Митчел Уилсон - Встреча на далеком меридиане
Работа шла неплохо, и намечались какие-то успехи, но все же Ник и Гончаров раздражали друг друга, и не только потому, что были разными людьми, но и потому, что обоих тяготило многое, не имевшее отношения к работе. Иногда в спор по какому-нибудь теоретическому вопросу они вносили такую горячность, такое ожесточение, которое вряд ли можно было объяснить научной принципиальностью, и тогда оба понимали, что между ними продолжается прежний разговор, проникнутый неприязнью. Но оба крепко держали себя в руках и к концу дня, несмотря на полное изнеможение, значительно продвинулись вперед.
— Совершенно ясно, что все эти соображения не решают вопроса, — сказал Гончаров, вставая из-за стола, заваленного ворохом бумаг. — Пытаясь найти способ проверки, который не нарушил бы остального плана, мы вынуждены будем согласиться на способ наименее верный. И в конце концов будет одна только видимость большой работы, а результатов — никаких. Это нечестно. Конечно, можно легко убедить тех, кто не понимает, как важно решить этот вопрос. Вы согласны со мной? Но что толку писать в отчетах, что произведено такое-то количество опытов, когда самый важный опыт находится под сомнением? Нет, — заявил Гончаров, — паллиативы тут не годятся. Единственный выход — найти наилучшую методику постановки опыта и потом провести его как можно быстрее.
Ник ничего не ответил.
— Что, собственно, вы и имели в виду все время, — продолжал Гончаров. Верно?
— Верно.
— Так почему же вы не сказали это прямо и откровенно? Неужели я, по-вашему, настолько слаб, что не снесу правды? Разумеется, у нас своя методика, но если мы заслуживаем критики, то надо нас критиковать.
— Это легко на словах, а на деле — стоит мне попытаться, как я натыкаюсь на невидимую стену. Сделаешь одно — оказывается, я нарушил какой-то обычай; сделаешь другое — выясняется, что я кого-то обидел или оскорбил. Я просто сбит с толку. Не знаю, что от меня здесь требуется.
— От вас требуется, чтобы вы были самим собой, и больше ничего.
— Хорошо, — спокойно сказал Ник. — Большего я и не прошу. Но как насчет последствий?
— Да ну их к черту! — сказал Гончаров по-русски. — Мы все взрослые. Вы заботитесь о себе. А мы сами о себе позаботимся. Мы это умеем. Сколько лет этим занимались. Будьте самим собою, и все.
— Ладно, только помните — на вашу ответственность.
— Ничего, выдержу, — невозмутимо отозвался Гончаров. — Я и не такое выдерживал.
10
Ник чуть не опоздал, добираясь до театра, и все-таки пришел раньше Вали. Он увидел ее в последнюю минуту; она торопливо шла, почти бежала от троллейбусной остановки и оглядываясь по сторонам, разыскивая его глазами и словно боясь, что он потерял терпение и ушел, не дождавшись ее. Ник шагнул вперед и взял ее за локоть. Валя обрадованно засмеялась и с облегчением прижала обе руки к груди.
— Собрание тянулось бесконечно, — сказала она. — И я уже ничего не соображала. Сначала я принимала очень активное участие в обсуждении. Я говорила умные, продуманные, дельные вещи. Потом взглянула на часы… Она всплеснула руками и подняла глаза. — Господи боже! Я уж думала, что мне ни за что не поспеть к началу! Я сидела и твердила про себя: «Товарищи, да ведь мы уже обо всем этом говорили. Обсуждать больше нечего!» И правда, обсуждать было нечего, — серьезно добавила она. Остается только… только… — Она с досадой щелкнула пальцами, подыскивая хотя бы приблизительно соответствующее английское слово, — прийти к определенным выводам и продолжать работу. Вы не имеете права сердиться на меня за опоздание, потому что сами в этом виноваты, понимаете?
— Я и не думаю сердиться, — сказал Ник. Они уже вошли в зал, пройдя через обширное фойе, мимо вешалок и буфета; все помещения были просторные и комфортабельные, чего никак нельзя было ожидать, глядя на неказистый фасад здания.
— Одно только плохо, — продолжала Валя, — вернее, очень неприятно…
Но ей не удалось докончить, свет начал медленно гаснуть, зазвучала музыка, занавес осветился и раздвинулся в стороны. Ник рассеянно следил за пьесой. Действие развивалось быстро, и, если он пропускал хоть одну фразу, дальнейшее становилось непонятным, как он ни старался догадаться о смысле пропущенных реплик. Но вскоре он опять отвлекся — в ушах его еще звучали Валины слова. Он ничего не знал о собрании группы Гончарова. Мысль, что он в это время находился где-то рядом и не подозревал о происходящем, усугубляла гнетущее сознание, что его твердо отстраняют от чего-то важного, животрепещущего. Он не знал, где происходит этот ясно видимый для всех, кроме него, барьер, за который нельзя проникнуть. Судя по всему, должно быть, в двух дюймах от его носа.
Впрочем, в антракте, совершая вместе с Валей церемониальный обход фойе, он скоро, как никогда, почувствовал свою слитность с этим городом и этой толпой. По иронии судьбы он только теперь, когда приближается срок его отъезда, стал привыкать к этим людям, к их голосам, одежде, к языку, на котором они говорят, к их жестам и интонациям. Если тут и были иностранцы, которые могли бы напомнить ему о другом мире, то они не бросались бы в глаза, и он не замечал их.
— Самое неприятное, — сказала Валя, продолжая прерванный разговор, — что за последние два дня стали поступать заявления: уже три человека просят перевести их в труппы, работающие над другими исследованиями.
— Из-за того, что может быть доказана ошибка?
— Никто, конечно, в этом не сознается, но люди, которые заботятся только о своей карьере, обладают удивительной способностью держаться в стороне от неудач, хотя бы только предполагаемых. Ну и пусть, без них нам будет даже лучше.
— Если бы я мог хоть чем-нибудь помочь!
— Кому?
— Гончарову, конечно. По-человечески я целиком за него, что бы между нами не происходило.
— Но и мы все тоже за него. Вы ничем не можете помочь, да и не должны ничего делать. Он не беспомощен. С ним его сотрудники. Посмотрели бы вы, что творилось на собрании! Это было чудесно, только слишком уж длинно. Но я не теряла времени. Под конец я стала придумывать, что мы будем делать в воскресенье, — не в это, мы ведь поедем к Ушакову, — а в следующее, и решила, что…
— Меня здесь уже не будет, Валя, — тихо перебил он, и Валя повернулась к нему, приоткрыв губы от горестного удивления. Она быстро отвела взгляд и шла, устремив вперед заблестевшие и сразу ставшие суровыми глаза.
— Понимаю, — сказала она упавшим голосом. — Вам пора возвращаться в свой институт.
— Нет. Кончается моя виза, — поправил он, не подчеркивая этой поправки.
— Ее можно продлить, — быстро возразила Валя.
Ник покачал головой.
— Гончаров, по-видимому, не считает это необходимым.
— Но вы хотели бы остаться?
— Конечно. Проверка в течение этих дней еще не кончится. Они только начнут работу, и я так и не буду знать, кто из нас прав. А кроме того…
— Да?.. — с надеждой спросила она.
— Я приехал сюда не только ради проверки опыта. Я надеялся, что в процессе работы во мне что-то произойдет.
— И что же?..
— И пока ничего не произошло. Вероятно, глупо было надеяться.
— Понимаю, — сказала Валя, сразу как-то сникнув. Они продолжали мерно идти вперед — толпа не давала возможности ни ускорить, ни замедлить шаг. И при свете десятка массивных сверкающих люстр, перед сотней зеркал, на виду у сотен пар глаз ни он, ни она не могли ни сказать, ни сделать что-нибудь такое, что выразило бы силу и напряженность их чувств.
— Ну что же, — тихо сказала наконец Валя. — Наверное, эта поездка была для вас очень интересной. Вы будете часто вспоминать о ней.
— И о вас, — сказал Ник.
Прозвенел первый звонок, призывающий в зал, и пальцы Вали крепче сжали его руку.
— Давайте немного подождем, — взмолилась она.
— Я сказал — и о вас, — повторил Ник.
— Я слышала. Я тоже буду думать о вас, — грустно произнесла Валя. — И вы не будете даже просить о продлении?
— Все зависит от Гончарова. Он знает, что я хочу остаться.
— Он займется этим. Я уверена.
Ник промолчал.
— Значит, еще есть надежда, — повеселела она. — Все будет хорошо, и мы еще придумаем, что будем делать в то воскресенье.
— Валя, послушайте. — Ник покачал головой с состраданием к ее молодости и способности загораться страстным оптимизмом без всяких к тому оснований. — Все это маловероятно. Через неделю или десять дней я уеду. И ничего тут не поделаешь.
— Нет! — горячо воскликнула она. — Этого не может быть! Но если и так, то надо относиться к этому иначе. Не будем говорить: «Только десять дней», — давайте скажем: «Еще целых десять дней» — и будем радоваться, что впереди еще столько времени. Иначе все станет невыносимо, а зачем нам портить себе эти дни? Ни уныния, ни вытянутых лиц, ни слез, ни сожалений, пока не прозвенит самый последами звонок, пока ее закроется последняя дверца. Тогда — все что угодно. Но сейчас — нет. Прошу вас. Ник. Нет!