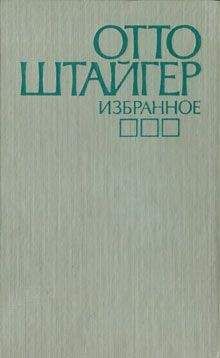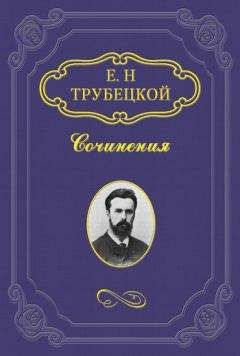Митчел Уилсон - Встреча на далеком меридиане
Чтобы сильнее почувствовать, где он. Ник закрыл глаза, подставив лицо солнцу, и погрузился в звуки воскресного тенниса «по-русски», прислушиваясь к мягкому туканью мяча, летающего от ракетки на землю и опять к ракетке, к глухому топоту мужчины и легкому бегу девушки, к еле слышной, словно рождающейся в воздухе музыке невидимых радиоприемников и патефонов — слева доносилось «Воспоминание» Листа, позади Этель Уотерс пела «Бурную погоду», а справа звучал венский вальс, — к возгласам «Хорош!» на теннисном корте, к счету очков по-русски: ноль, пятнадцать, тридцать, сорок, — к протяжному «Бо-ольше!», которое заменяло английское «Your add».
Даже междометия и те звучали по-русски: вместо американского «Oh», произносимого горлом, с придыханием, слышалось «Ой!» — и когда это «Ой!» произносится должным образом, оно идет откуда-то из глубины, из самого сердца. Казалось, «Ой!» имело множество значений, так же, как и русское «Пожалуйста», которое реже всего соответствует английскому «Please».
— Я очень рада, что мы поехали, — услышал он негромкий Валин голос и открыл глаза. — Старик так доволен! Можете вы себе представить, он учился работать у Резерфорда, потом работал с Кюри — это еще до тысяча девятьсот четырнадцатого года, — а потом оставил их всех и вернулся к нам… — Она говорил «у нас», «к нам», «наше» так, словно охватить одним коротким словом более двухсот миллионов человек было для нее так же легко, как и дышать. — Он приехал в самый трудный период гражданской войны и с тех пор всегда оставался с нами, и, если нужно было поднять голос, он никогда не отделывался молчанием, чего бы это ему не стоило, а стоило это ему в трудные времена очень много. Такой деликатный, мягкий человек — и вдруг столько мужества! Нет, я очень рада, что мы приехали.
— Я тоже, — сказал наконец Ник.
— И я рада, что Митя сказал ему, будто вы очень хотели его видеть. Вы не должны сердиться за это на Митю. Он был студентом Горячева и с него брал пример, когда с его женой случилось несчастье. — Ник повернул голову и взглянул на нее. — По-моему, — продолжала Валя, прижав руку с растопыренными пальцами к шее и этим как бы подчеркивая, что имеет в виду только себя. Когда она говорила «по-моему», это означало, что речь идет о чем-то глубоко личном. С одинаковой легкостью она то отделяла себя от всех, то как бы отождествляла с двумястами миллионами людей. — По-моему, повторяла она, — самое огромное дело в своей жизни Митя совершил не в научных лабораториях, а в маленькой комнатке, за столом, где он холодной ночью писал письма женщине, сидящей в тюрьме. Он никогда не рассказывал мне об этом, но я себе так это представляю. Он знает, писал он, что она ни в чем не виновата. Он писал, что никогда не перестанет отстаивать ее невиновность. И писал, что теперь она должна считать себя его женой, а он будет ждать, пока ее освободят.
— И он ждал?
— Ждал. Он не переставал писать ей, хотя, наверное, очень боялся. Ведь за эти письма его тоже могли арестовать. Но все время он не прекращал работу и все-таки верил в будущее. А когда она вернулась, Горячев дал Мите свою машину, чтобы встретить ее, потому что Митя хотел сейчас же зарегистрировать их брак. Я тогда была еще девочкой, но все знали эту историю, и я считала его героем.
Ник помолчал. Он впервые почувствовал в Гончарове не ученого, а просто человека и гордился им по-человечески, но его уколол оттенок той же гордости в голосе Вали, поэтому он не удержался, чтобы спросить:
— Почему же тогда он не хочет, чтобы вы со мной встречались?
— А почему вдруг такой вопрос?
— Потому что я чувствую, что вы с ним говорили об этом.
Валя посмотрела на него молча, но молчала она потому, что про себя тщательно подбирала слова, чтобы выразить свою мысль.
— Я интересую его как член руководимой им группы, — сказала она наконец. — Не как женщина.
— И только? Вы в этом уверены?
Валя чуть улыбнулась.
— Вы напрасно думаете, что это пустяки. Быть может, это важнее всего другого.
— Правда? Понимаете, ведь если вы интересуете его как женщина, если ему действительно неприятно, что мы встречаемся… то зачем же причинять ему боль? — Он сказал это очень неохотно, но ведь в мире и без того много страданий, и стоит ли наносить раны намеренно? — Ответьте мне прямо, добавил он.
— Я уже ответила, — сказала Валя, слегка покраснев.
— Тогда скажите, что вы с ним говорили о наших с вами встречах?
Валя вздохнула.
— Ох, не надо!..
— Нет, — заупрямился он. — Раз это касается меня, я хочу знать.
— Да ведь это и так ясно, — беспомощно сказала она.
— Мне не ясно.
— Ну хорошо, как бы вы отнеслись к тому, что американская девушка, работающая у вас в лаборатории, и девушка серьезная, начинает встречаться с иностранцем… не обязательно с советским человеком, но вообще с иностранцем?
Ник смотрел на нее с удивлением.
— Вам было бы все равно? — спросила она.
Ник даже не знал, что ответить. Он просто покачал головой, не сводя с нее взгляда.
— Она может делать все, что ей угодно, — сказал он. — Иностранец или нет — какое это имеет значение? У нас большинство людей выходцы из других стран, либо иностранцы по происхождению. Кроме индейцев. Да и тех мы считаем выходцами из Азии.
— Видите ли, — сказала Валя тоже упрямо, хотя и с улыбкой, — у нас на это смотрят иначе. Вероятно, мы гораздо сплоченнее, чем вы. Если наша девушка увлечется иностранцем и отношения у них настолько серьезны, что они намерены пожениться, тогда… быть может… это ничего, но друзья девушки должны наверняка знать, что это — серьезно. Если, наоборот, они просто дружат, встречаются от случая к случаю, разговаривают — тогда тоже ничего, хотя и несколько хуже: ведь всегда найдутся люди, которые будут думать, что это больше, чем дружба.
— А если и так? — беспомощно спросил он.
Валя вздохнула.
— Вы, наверное, уже заметили, что нам свойственна сплоченность. Иногда она проявляется даже чересчур сильно, но что поделать — мы такие. Русские мужчины не испытывают радости при виде русской девушки — серьезной девушки, конечно, — с иностранцем. Они просто не могут этого переварить. Им обидно. Уж не знаю, что это — чувство ответственности или собственности. Впрочем, сами они не видят особого греха в том, чтобы поухаживать за иностранками. Но я же говорю, ничего не поделаешь, мы такие. Да и не только мы, русские. Я думаю, почти везде это так.
— Значит, вот это и беспокоит Гончарова? — медленно спросил Ник, не вполне веря ей.
— По-моему, да, отчасти, — спокойно сказала Валя.
— А, черт бы меня взял!
— Вы сердитесь?
— Да, пожалуй. Даже смешно, до чего это не похоже на то, что я себе представлял. Смешно, но и оскорбительно. Для меня невыносимо, что от меня отгораживаются стеной. Мне очень неприятно чувствовать себя каким-то неполноценным. Послушайте, вот я сижу вмести со всеми…
— Вы не поняли. Никто ничего не имеет против вас лично. Все очень хорошо к вам относятся. Митя восхищается вами, я это знаю. И вы знаете, как я хочу быть вашим другом.
— Правда? Тогда позвольте задать вам вопрос: можем мы Опять встретиться вне института? Поедем мы с вами на будущей неделе к Ушакову?
— Да, мы можем встретиться, — негромко сказала Валя. — И к Ушакову мы поедем. Пусть говорят что угодно. Я сама знаю, что правильно и что неправильно. — Она положила руку на его запястье. — Нам пора возвращаться. Нас, наверное, уже ждут. И не сердитесь пожалуйста.
— Постараюсь, — ответил Ник. — Но надеюсь, что все обстоит так, как вы говорите.
В их отсутствие у Горячева появились новые гости.
Солнце начинало опускаться. Все лениво развалились на лужайке. К щенку сеттеру прибежали соседские собаки и, заливаясь лаем, подняли в дальнем углу сада сумасшедшую возню. Составилась партия в крокет — в ней участвовала и Валя, неожиданно проявившая упорное стремление выиграть. Звонко стучали крокетные шары, шумно дышали запыхавшиеся собаки, на лужайке шел неторопливый, бессвязный разговор.
Ник полулежал, опершись на локоть, и думал о том, что с первого взгляда все это ничем не отличается от тихого воскресного времяпрепровождения в любом другом уголке мира. Но теперь он знал, что это не так, хотя бы потому, что он и его здешние друзья встретились, имея за плечами такой разный жизненный опыт, такие разные исторические эпохи. Эти люди знали такое, чего никогда не знал ни один американец его поколения, они пережили бурные вихри истории, пережили революцию, голод, террор, эпидемию, войну, героизм, предательство, репрессии, отчаяние и новые надежды. И возможность наслаждаться таким безмятежным воскресным днем, который для него был лишь повторением того, что он знал всю свою жизнь, они получили всего несколько лет назад, после десятилетий лихорадочных метаний, ценою неисчислимых потерь.