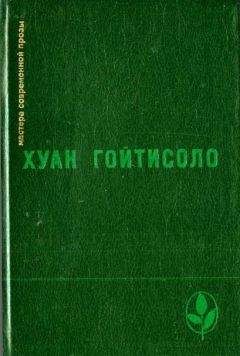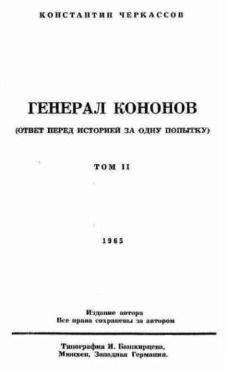Сергей Бабаян - Электрон неисчерпаем
– Да, пожалуй что… усталое равнодушие.
– Но вы же работаете?
– Работаю. Но как-то по инерции, по привычке.
– То есть к работе у вас нет интереса. Иван Ильич помолчал. Он вдруг испугался.
– Ни малейшего.
– Вот вы сказали, у вас готова докторская диссертация…
– Да.
– И что же, у вас нет никакого… честолюбивого чувства? Защититесь, станете доктором наук…
– Ну что вы, какое честолюбие…
– Но вы же будете ее защищать?
– Наверное, буду… ну, опять-таки по инерции. Я же хожу на работу. А тут уже назначен день, соберутся люди…
– И часто вы думаете о том, что мне говорили?
– Так подробно, как я вам говорил, я вообще не думаю. Но главная мысль… она постоянно сидит во мне, забыть ее невозможно. Иногда как будто вспыхнет – тогда вообще руки опускаются, иногда будто тлеет.
– Так… А когда у вас лучше настроение – утром или вечером?
Иван Ильич подумал.
– Утром, наверное, хуже… к вечеру как-то расхаживаешься.
– Вы испытываете страх?
– Нет.
– Только тоску?
– Тоску… пустоту в душе. Не знаю, как объяснить.
– А не бывает у вас эмоциональных всплесков… так сказать, взрывов отчаяния?
– Нет. – Иван Ильич помолчал. – Бывает, конечно, что я раздражаюсь… телефон зазвонит, когда ни с кем говорить не хочется.
– У вас много друзей?
– Было довольно много… приятелей.
– А сейчас?
– Сейчас почти никого не осталось.
– А почему?
– Я не знаю.
– А вы нуждаетесь в общении?
– Нет.
– Ни с кем?
Иван Ильич помедлил.
– Ни с кем.
– Сердце вас не беспокоит?
– Нет.
– А вообще есть какие-нибудь признаки физического недомогания? Желудок, головные боли, общая слабость?
– Нет. Ну, слабость… Бывает, конечно, такая тоска, что сил нет подняться, но это ведь от разума, а не от слабости тела.
Михаил Степаныч подытоживающе цокнул языком, глубоко вздохнул и поджал губы.
– Так. Ну, что я могу вам сказать… Многие симптомы депрессии, конечно, у вас налицо, но это настолько мотивированная… я хочу сказать, разумно мотивированная депрессия, что однозначно назвать это болезнью я не могу. Другое дело, что ваши психические и поведенческие реакции на собственные умозаключения… они, скажем так, необычны – и, думаю я, указывают на некоторые, э-э-э… ну, все-таки нарушения так называемого таламостриарно-диэнцефального комплекса. Вы сами подметили, что абсолютное большинство людей совершенно равнодушно к глобальной судьбе человечества… и в силу глубоко эгоистического восприятия мира, и в силу присущего человеку – обусловленного инстинктом самосохранения – так сказать, животного, нерассуждающего оптимизма: без этого человек, единственный из всего животного мира наделенный сознанием, не смог бы выжить как биологический вид… порожденные уже его сознанием стрессы – в дополнение к тем, что вызваны чисто внешними раздражителями, – его бы убили. Вот, например, вы мне все рассказали, все объяснили, я с вами почти согласен: да, если в одном доме живет несколько завистливых, жадных, властолюбивых людей и у каждого из них накапливаются все более совершенные яды, взрывчатые вещества и оружие, то рано или поздно жизнь эта кончится или взрывом, или мором, или перестрелкой… я в принципе с вами согласен, и тем не менее я, быть может, вопреки разуму, не могу разделить вашего пессимизма. Я продолжаю надеяться: как-нибудь обойдется, что-нибудь придумаем… хотя и не представляю, что, – и ничем этого своего оптимизма заглушить не могу: это сильнее меня. Более того – очень скоро я вообще об этом забуду, на уровне подсознания у меня включится торможение нежелательных, раздражающих меня мыслей, эмоций – и я буду жить и работать по-прежнему… У вас этого не происходит. Причина этого, думаю я, и в некоторых – далеко не худших – чертах вашего характера, но и в некоторых нарушениях аффективной сферы вашей психической деятельности. Эти нарушения, кстати, могут быть следствием психических травм… Не было ли у вас за последнее время каких-нибудь неприятностей… чисто личного свойства?
„Знает, – подумал Иван Ильич. – Ну конечно, Борис сказал“.
– От меня ушла жена.
Он сказал это безо всякого чувства: он столько пережил, когда Лена ушла, что недели через две у него – подобно тому, о чем сейчас говорил Михаил Степаныч, – как будто включилась какая-то обессилившая его муку, парализовавшая его чувства и мысли об этом защита.
– Любая резкая перемена в привычной, устоявшейся жизни может выбить человека из колеи, – осторожно сказал Михаил Степаныч.
– Да нет, это здесь ни при чем… Я и раньше думал об этом.
– Но ведь раньше… ну, хорошо. В любом случае я бы порекомендовал вам что-нибудь из антидепрессантов и… на какое-то время сменить обстановку. Вообще многое сменить… в том числе и в личной жизни. Возьмите путевку, поезжайте в дом отдыха.
Иван Ильич поднял глаза: до этого он с минуту смотрел на неясное – переливчатым светлым пятном – отражение доктора в полировке столешницы. Михаил Степаныч твердо встретил его взгляд.
– Иван Ильич, вам надо выбросить все это из головы.
– Но это же будет бегство от реальности, – сказал Иван Ильич. Беспомощное, какое-то обреченное чувство вдруг охватило его.
– Вся наша жизнь – бегство от реальности. Лет через тридцать мы с вами умрем, и след наш сотрется с лица земли, и все для нас будет напрасно. Но человек не думает денно и нощно о неминуемой смерти и, пока не повстречается с реальной опасностью, не боится ее.
– Я тоже не боюсь… это другое. Потерян смысл жизни – делать что-то, что полезно и хорошо.
– Это я понимаю, – сказал врач, – я просто привел пример… Кстати, у вас нет детей?
– Нет.
– Вот если бы у вас были дети – уверяю вас, все было бы по-другому.
„Зачем он так говорит?…“
– Возможно.
– Но если такая… не относящаяся к вашим умозаключениям реальность, как дети, могла бы повлиять на вашу жизнь – и вы сами это признаёте, значит, можно – и нужно – найти что-то другое.
– Наверное. Но это будет как-то бессмысленно… это будет обман себя.
– Ну Иван Ильич, почему сразу обман себя? – неожиданно горячо сказал доктор. – Займитесь, наконец, философией! Ведь вы же во всех своих рассуждениях и тем более выводах – вульгарный, извините, материалист. Почитайте классиков идеализма, наших религиозных философов, наконец, что-нибудь теософическое… Библию, наконец, почитайте. Я вас уверяю, что люди, которые писали о Боге, о бессмертии души, даже о мире, не существующем вне нашего воображения, были никак не глупее нас. Не исключено, что вы измените свою точку зрения. В конце концов, общепринятая концепция о бесконечности материи, о неисчерпаемости вашего электрона – это ведь тоже чисто умозрительная философская категория. Насколько я понимаю, ни одна бесконечность не может быть установлена опытным путем.
– Конечно, – сказал Иван Ильич.
– Ну вот видите. Однако вы, опираясь на недоказуемое, умозрительное положение, ломаете свою живую, реальную жизнь.
– Я попробую, – сказал Иван Ильич. „Зачем? – отстраненно подумал он. – Я пятнадцать лет занимаюсь строением атома. Философы прошлого, конечно, были намного умнее меня, но они не знали о материи и сотой доли того, что о ней знаю я. Конечно, я вульгарный материалист; кем же я еще могу быть, если знаю, что люди, и я в их числе, могут рассчитать и построить бомбу, которая разнесет земной шар на куски, – и никакая трансцендентная сила не сможет им помешать… Я и жизнь мыслю в чисто материальном ее выражении, потому что в жизни ничего, кроме материи, нет; конечно, есть еще мысли и чувства, но и они порождение и подчиненные плоти… в здоровом теле здоровый дух… но почему тогда меня, физически совершенно здорового человека, убивают мои мысли и чувства?…“ Он посмотрел на Михаила Степаныча: пока он молчал и думал, врач мелко исписал несколько фиолетово проштемпелеванных рецептурных листков – и сейчас, надев колпачок на ручку, придвинул листки к нему.
– Для начала я даю вам вполне невинные препараты плюс витамины, – сказал врач, пряча ручку в карман и изготовляясь вставать. – Они не создадут вам иллюзии, что все хорошо и проблемы вашей не существует… но, во всяком случае, настроение ваше не будет еще больше портиться от вида осеннего неба. И поезжайте куда-нибудь, отдохните. Все будет в порядке. Если что, всегда буду рад с вами встретиться… Вот вам мой телефон.
– Большое вам спасибо, – сказал Иван Ильич – со смутным чувством вины.
Михаил Степаныч поднялся. Из кухни, услышав гул отодвигаемых кресел, вышел Борис:
– Ну, у меня уже все готово…
…Это было месяц назад. Таблетки Иван Ильич принимать не стал; в дом отдыха не поехал; не стал и читать философов. Таблетки он не стал принимать потому, что, во-первых, будучи всю жизнь человеком здоровым (да и сейчас не считая себя больным), подсознательно в лекарства не верил, а во-вторых, все вокруг него казалось ему таким непроглядно-серым, что серое небо над головой уже никак не влияло на его настроение – просто терялось на сером. В дом отдыха не поехал он потому, что не испытывал к этому никакого желания – а, скорее, испытывал острое нежелание „менять обстановку“, как бы настоящая ни была неприятна ему, – и опять же не верил, что эта перемена может что-нибудь в нем изменить (в глубине души не сомневаясь в хрестоматийном: от себя не уйдешь…) Наконец, философов он не стал читать потому, что на это у него уже просто не было умственных сил: он чувствовал, что очень устал – и что с каждым днем как будто устает все больше и больше. Делать ничего не хотелось, вся жизнь его превратилась в какое-то тоскливое, изматывающее самопринуждение: вставать, умываться, бриться, завязывать галстук, готовить еду, выводить машину, тормозить и снова трогать у светофоров, отвечать на вопросы сотрудников, стоять в очереди в институтской столовой, разбирать вечером и убирать утром постель… И потому, что все это давалось ему лишь с физическим и душевным усилием, а некоторые действия (например, бриться) просто с надрывом, – он начал день за днем, постепенно, шаг за шагом упрощать свою жизнь. Сначала он перестал по многолетнему обыкновению плотно завтракать – пил голый чай, тем более что есть ему не хотелось; потом бриться стал через день – тем более что у него были светлые волосы и не так уж сильно росла борода; потом перестал носить галстук и надел водолазку – тем более что в галстуках давно уже ходили не ученые, а провинциальные директора… Потом он перестал принимать душ через два дня на третий и мылся – небрежно и быстро, томясь, – лишь раз в неделю; потом он стал вечерами выключать телефон – впрочем, если не забывал, включал его утром, хотя и непонятно зачем; потом он не поменял сгоревшую лампочку в люстре – рассеянно подумав что в люстре еще два рожка; потом он перестал мыть машину, а однажды (и сам себе – как будто взглянув на себя мимолетно со стороны – чуть удивился) не включил звуковую сигнализацию – и дальше включал ее уже от случая к случаю… С освобождением от этого множества мелких, но гнетущих обязанностей жизнь его, казалось, должна была облегчиться – но этого странным образом не происходило: оставшиеся как будто с удвоенной силой наваливались на него. Приходилось, по осеннему времени, чистить хоть дважды в неделю обувь – впрочем, он все чаще делал это без крема; приходилось готовить ужин, и он перешел на осклизлые, серые – цвета осеннего неба и всего, что его окружало, – покупные пельмени, которые съедал, брезгливо не чувствуя вкуса; приходилось каждый день чистить зубы – и он перестал это делать утром, чистил лишь вечером, и не две минуты (как он это делал с детства, прочитав в каком-то журнале, что меньше чистить бессмысленно), а сколько хватало терпения – а терпения хватало провести торопливо щеткой лишь несколько раз; приходилось платить за квартиру, выстаивая в сберкассе убийственно длинную очередь, покупать в магазине пельмени и хлеб, доставать из почтового ящика газеты, которые он перестал читать (и он ничего не выписал на следующий год), заправлять бензином машину… наконец, приходилось работать. К счастью, близился конец года и надо было сдавать отчет; всю жизнь это было к несчастью – самое беспокойное, бестолковое, угнетающее рутинной работой время, – но сейчас именно такая работа была ему по плечу: материалы для отчета были готовы, оставалось их только скомпоновать – он садился с утра за свой стол и отрешенно, неторопливо (ничего, против обыкновения, не исправляя, не проверяя и даже почти не осмысливая) – писал, писал, писал… Люди ему были в тягость – особенно если обращались к нему, неприятнее всего – если с шутками, смехом, своей жизнерадостностью раздражая, подавляя его; увидев на улице знакомых, он с тоскливым замиранием сердца стремился их обойти; к женщинам он был равнодушен – хотя прошло уже больше месяца с того дня, как Лена ушла… впрочем, он однажды – безо всякого чувства – отметил, что и люди, в противоположность былым временам, редко подходят к нему. Он уже больше не думал о судьбе человечества; то есть он понимал, что его ждет скорый в историческом масштабе и страшный конец, но это стало для него уже столь очевидным – как то, что ежевечерне заходит солнце, – что уже совершенно не волновало и даже уже как будто не угнетало его… просто все вокруг него было как будто уже без причины, самодостаточно плохо. В редкие минуты просветления он уже осознавал, что все, что с ним происходит, неправильно и нехорошо, и что еще месяц назад, когда приходил к нему врач Михаил Степаныч (казавшийся сейчас космически далеко от него), он был другим, – но сейчас ему было уже все равно. Он был совершенно равнодушен к себе – он был себе чужим человеком. Иногда он устало думал о том, когда же – и чем – все это кончится…