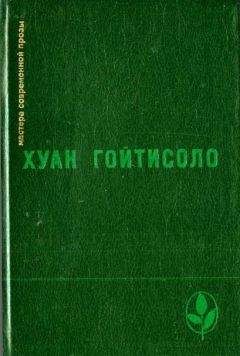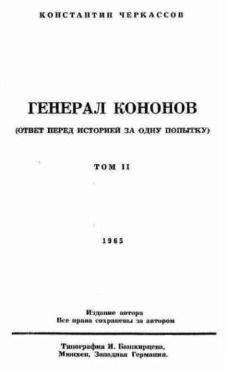Сергей Бабаян - Электрон неисчерпаем

Обзор книги Сергей Бабаян - Электрон неисчерпаем
Сергей Геннадьевич Бабаян
Электрон неисчерпаем
Электрон так же неисчерпаем, как и атом…
В.Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм»Ты в комнату войдешь – меня не будет.
Я буду в том, что комната пуста…
Маргарита ИвенсенОн взялся за ручку подъездной двери – пальцы кольнуло холодом – и вдруг вспомнил… нет, не вдруг: как-то медленно, вяло вспомнил, – что забыл запереть машину. Он остановился на миг (почти рефлекторно: вернуться и сделать то, что забыл), но тут же продолжил движение, потянув тяжелую дверь на себя, – потому что его подсознание равнодушно шепнуло: «Плевать…» И только когда, наконец, ожило сознание – и тоже равнодушно, устало сказало ему: «Конечно, плевать… но если машину угонят, придется ездить в институт на метро… среди сотен недобрых, неумных, несчастных людей…», – только тогда он отпустил, обессилив пальцы, ледяную скобу (дверь медленно, кренясь на разболтанных петлях, поплыла в коробку: протяжно заскрипела пружина, пересчитывая ржавые кольца о ребро косяка), повернулся и через силу, сгорбясь и глубоко засунув руки в карманы, пошел к длинному, тусклому, бледному – одноликому в полусвете позднего осеннего дня – ряду машин. Когда он шел, взглядом уже механически отыскав свои «Жигули» (ровно, как инеем, заросшие грязью до окон, с черным блестящим полукольцом на переднем стекле), в нем как будто что-то проснулось – и он ясно подумал: «А ведь мне действительно наплевать на нее… Неужели было время, когда я на нее молился?…»
Под ногами скользил и хлюпал первый недотаявший снег. Внутренний двор был беспросветно залит жидкой грязью; уродливо обрезанные тополя торчали из нее жалко и дико – кривыми неокоренными столбами. Переполненные мусорные контейнеры на углу мокро блестели шапками набрякших под изморозью отбросов. Он подошел к машине; рядом сияла вишневым лаком «Волга» соседа с третьего этажа… вспомнил его: высокого, плотного, смоляно-черного, с темно-красными налитыми щеками, всю жизнь самоуверенно благодушного – Бог знает, чем он занимался, но как он был радостен и энергичен, как неуязвимо уверен в себе… «Неужели он ничего не понимает? – рассеянно – и лишь чуть удивленно – думал Иван Ильич, отжимая хромированный клавиш замка. – Что все, что он с таким удовольствием и самодовольством покупает и делает: и эта „Волга“, и „Москвич“ для жены, и ремонт квартиры, и строительство дачи… и его капельно похожие на него щекастые дети, и, наверное, достойная его жизненных сил и упрямства работа, – что все это напрасно?… Или ему это все равно? Но как это может быть все равно?…»
Он утопил фиксаторы дверец, включил звуковую сигнализацию (из подсознания вырвался ее раздирающий душу крик: оглушительное, режущее ухо звуковым синусоидальным ножом кваканье электронной лягушки, – и он подумал с тоскливым отчаянием: «Господи, а если ночью сработает?! Вскакивать, одеваться, бежать… Зачем?…»), захлопнул дверцу и остался неподвижно стоять у машины, уцепившись взглядом – почему-то не было сил оторваться – за к pan ленный мелкими брызгами грязи небесный блик на крыле… За спиной вдруг визгливо, полосуя по нервам, затявкала невидимая собака; откуда-то издалека ей как будто откликнулась сирена автомобиля – запульсировала тонко, зло, как голодный комар, иголками стреляя в виски… вот так же кричит и его машина… Мерзкие твари. Усталая, загнанная какая-то злоба вдруг охватила его; почти бессознательно, нетерпеливо (нетерпением сердца, не разума) задрожавшей рукой он отделил от связки ключей один – длинный, стержневой, от квартиры – и, приставив его острый конец к стеклянно-гладкому боку дверцы, с силой, коротко навалившись всем телом, провел сверху вниз… Ключ пару раз споткнулся; на поверхности вызмеилась глубокая, посеребренная лаковой порошей царапина. Он глубоко вздохнул, успокаивая быстро и сильно застучавшее сердце, и, повернувшись, быстро зашагал не глядя на лужи к подъезду.
В квартире было темно и подземно тихо… иногда ощущалось – все еще непривычно тихо: когда он открыл дверь, в слуховой его памяти встрепенулось торопливое щелканье хотя и невысоких и плоских, но – каблучков: Лена никогда не ходила в шлепанцах… «Каблук одухотворяет женскую ногу», – сказал однажды случайный гость, кажется, муж одной из ее подруг, приглашенной уже забылось давно по какому поводу – как забылось и то, почему об этом зашел разговор, и даже внешность этого гостя (в памяти смутно брезжило лишь что-то ослепительно черно-белое, улыбчивое и, кажется, светловолосое), – сказал и посмотрел, улыбаясь, на Лену, а она покраснела… ну, может быть, порозовела: сейчас он уже не помнил, какое у нее в ту минуту – лет пять назад – было лицо, но помнил до сих пор, какая в нем вдруг вспыхнула ревность: не злая, не яростная, а какая-то болезненная – испуганная, тоскливая, горькая – ревность, – потому что он больше любил ее, чем себя – себя вместе с ней или без нее… Стук каблучков угас еще раньше, чем утробно, резонируя в дверь, щелкнул подпружиненный ригель замка; он еще чуть удивился… не он, а как будто кто-то потусторонний – со стороны, – живучести своей чувственной (неуязвимой – неподвластной разуму) памяти: прошло уже больше месяца, как Лена ушла («Лена, – подумал он, – Лена, Лена… ах, ну при чем тут Лена…»), а он все еще помнил стук ее каблуков – впрочем, перед этим прошло почти десять лет…
Он разделся без света, краем глаза улавливая серебристо-черные переливчатые сполохи в трехстворчатом развороте зеркал, и прошел… туда, куда было ближе всего идти, – в лоснящуюся холодным кафельным блеском полутемную кухню. Окно было безжизненно-гладко закрашено вечереющим серым небом. Он подошел к окну: над подоконником всплыл пустой двор, утыканный суковатыми белесыми обрубками тополей. Вдалеке, на дороге, сбились перед светофором в плотную черепитчатую толпу грязные спины автомобилей; одиночные пешеходы, как будто спасаясь, бежали через едва различимую зебру к аспидно-черным панелям. Вдруг пошел дождь – медленный, мелкий, беззвучный… подумалось – неживой, – как будто за окном опустился дымчатый тюлевый занавес. Он повернулся, вышел из кухни, с минуту постоял неподвижно на пороге гостиной – душа и тело томились, нигде им не было ни дела, ни места, – усилием воли шагнул, подошел к одиноко стоявшему креслу, сел, вытянул ноги, посмотрел в пустое окно…
Так больше нельзя. Надо что-то делать. Что-то делать… Зачем?
Он перевел взгляд на стоявший в углу телевизор. Окно было светло-серым, экран телевизора темно-серым, потолок чуть темнее окна, но светлей телевизора. Все вокруг было серым. Стоявший на подоконнике кактус был черным. Черная птица, медленно взмахивая угловатыми крыльями, проплыла за окном. На кухне, лязгнув подвеской двигателя, выключился холодильник. Вот что такое, оказывается, полная тишина. Форточки были закрыты, и улицы не было слышно. Все молчало. Лена молчала, потому что ее больше не было. Телефон молчал, потому что ему никто не звонил. Часы молчали, потому что он их перестал заводить. Зачем?…
Он поднялся – невмоготу стало сидеть, с каждой минутой все тяжелее наваливалось какое-то безмысленное, бесчувственное, обессиливающее отчаяние, – прошелся к окну и обратно – все было тягостно, нехорошо… повернул в свою комнату. Стол был завален пыльными исписанными бумагами; двухэтажные строчки дифуравнений перемежались росчерками прикидочных графиков на небрежных крестовинах координатных осей. Кабинет был мал, здесь ходить было негде… он тяжело опустился на стул и уперся взглядом в беспросветно забитые книгами полки от пола до потолка. Боже, сколько написано книг… зачем?… Вон стоит и его, рядом с растрепанной гармошкой его же брошюр, институтских репринтов, статей в журналах. Эту книгу он хотел посвятить Лене… то есть это была его потаенная мысль, к исполнению которой он не сделал ни шагу. У них это было не принято. Однажды Фомичев принес в институт какую-то толстую книгу и, не открывая заглавия, показал посвящение: «Этот труд бесконечно многим обязан поддержке и ободрению со стороны жены моей, Эльзы, и я от всего сердца посвящаю ей эту книгу как дар моей горячей любви…» Автором был какой-то голландец с живописной фамилией – Ван Эйк или Дейк; книга называлась «Метод корневого годографа в теории расчета автоматических систем». Все смеялись… как говорят лабораторные девочки – дико смеялись. Тогда он и подумал о том, чтобы посвятить свою книгу Лене, но, конечно, не сделал этого. Бонмотист Красниковский сказал: «Что хорошо для Лейдена, то рано для Москвы…» Когда это было? Не так уж давно – три года назад. Этого тогда еще не было.
Нет, неправильно – это уже было. Это было уже тогда, когда Оппенгеймер приехал в Лос-Аламос. И тогда, когда Беккерель открыл излучение. И тогда, когда Ньютону упало на голову яблоко. И тогда, когда Прометей похитил огонь. Это было заложено с самого начала… с самого начала, в неотвратимо предстоящей человеку цепи причинно-следственных связей, был заложен этот конец. Но он тогда об этом не знал. И опять это было не так: об этом все знали, это было излюбленной темой фантастов, об этом говорили с самых высоких трибун – в последние годы ни одна обращенная к миру речь не обходилась без этого… «ceterum censeo Carthaginem esse delendam».[1] Впрочем, с высоких трибун по обыкновению лгали. Все знали об этом, и он это знал – но в это никто, и он в том числе, не верил. Отсюда вытекало странное, противоестественное для ученого положение: мало знать, надо верить; и спасение, и гибель не в знании – в вере. Вера в Бога была спасением; вера в человека, подкрепленная знанием, была гибелью. Он был ученым и поэтому выбрал второе. Глупость, не выбрал: это само его выбрало – из миллионов других.