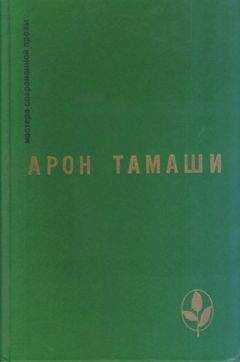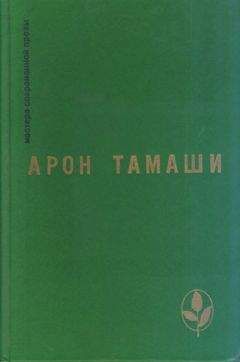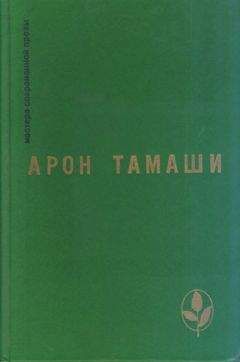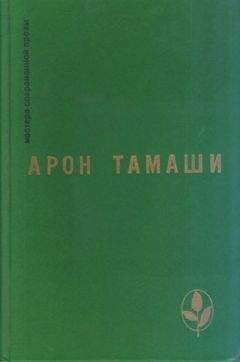Арон Тамаши - Корень и дикий цветок
Некоторое время оба молчали.
— Шапку-то на крючок не повесили? — чуть погодя спросила Тези.
Старик растерялся, удивленный тем, что девушка вроде и не глядит, а видит.
— И пальто тоже?!
Старик и на это ничего не ответил. Тези подняла голову и пристально посмотрела на деда, словно не узнавая. Отчасти так оно и было — настолько вдруг постарел Тимотеус. Полные скорби глаза его потускнели и еще глубже забились под косматые брови, лицо осунулось, нос заострился.
— Спать сегодня не будем, — сказал он.
— Да уж, — только и ответила девушка.
За окном сердито ворчал ветер, время от времени завывая и взвизгивая; тишину дома нарушал лишь мурлыкавший в печке огонь. И старик, и девушка — оба думали об одном и том же: почему непременно должно произойти то, что сейчас происходит? У старого Тимотеуса сомнений на сей счет не было: так и должно быть. Потому что законы диктует нужда и она же сама заставляет их выполнять. Он — выполняет, выполнят и волки. Им нужда пишет приказы на свежевыпавшем снеге, присылает с неистовым ветром; а раз приказывает нужда — они непременно придут. Хутор манит их духом овец, да еще у коровы на шее висит колокольчик — чуть пошевелится, переступит от холода с ноги на ногу, он и звенит.
Так убеждал сам себя старик в правильности происходящего. Но девушка рассуждала иначе, ведь в ней бутон жизни лишь набухал. Сена вовремя надо было достать, а пришлось бы — так и украсть. Впрочем, если и не сделал ни того ни другого хозяин, то кто же мешал вдосталь насобирать грибов, ягод, надрать сочной древесной коры; да мало ли что еще с голоду съела бы корова! Ну, да что уж теперь. Только волки все равно не придут, в эту пору у волчиц течка. А если все же заявятся, то корову волхвы отстоят: ведь Крещение завтра.
От последней мысли девушка даже повеселела.
— Налей-ка палинки, — попросил старик.
— Сейчас, деда, — ответила внучка.
— Себе тоже.
— Черничной?
— Мне лучше вишневой. Она цвета крови.
Тези налила ему и себе; себе — капельку, да и то исключительно ради дедушки. Чокнулись, хотя между ними это не было принято, и, когда поверх стаканчиков взглянули друг другу в глаза, оба вдруг отчетливо ощутили, что и мыслями и душой, в земной жизни и в великом вселенском бытии неразделимы они, одно целое, всегда им были и всегда будут.
Старик выпил залпом кровавую вишневую палинку; и цвет ее, и название напомнили ему о забытой у Колокана палке из дикой вишни. Он колебался, сказать или нет о том Тези, но в конце концов решил, что лучше уж ничего от нее не скрывать.
— Уходил-то я с палкой, — произнес он.
— Да, из дикой вишни, — подтвердила Тези.
— Во-во.
— А вернулись с пустыми руками!
— Верно.
Он кивнул на бутылку — мол, налей-ка еще, — а сам тем временем прикидывал, как бы ему обойти, не упоминать Колокана, но ничего не получалось, и он сказал:
— У Фирко забыл.
— У кого?! — вспыхнула девушка.
И тотчас встала, сверкая глазами. Спина и ноги ее сами собой напряглись, как у бойца перед рукопашной, взгляд полыхал. Но уже в следующее мгновение она взяла себя в руки и, чтобы дедушка чего не подумал, усилием воли подавила гнев и снова села за стол. Затем, принужденно рассмеявшись, сказала:
— Небось не съест палку-то.
— Не съест, это верно.
— Приспособит куда-нибудь?
— Да нет.
— Что ж тогда?
— Принесет.
Тези вскочила, будто на юбку ей уголек упал, но как раз в этот миг из ночи донесся звон колокольчика — слабый, почти что беззвучный. Так возникают в бегущей воде ручья и, поднявшись к поверхности, лопаются пузырьки воздуха. Девушка замерла, как стояла.
Оба прислушались.
— Это она так просто, — сказал старик, — зовет от скуки.
Тези тотчас забыла о колокольчике, и кровь в ней вновь устремилась по жилам с прежним гневным напором.
— Принесет?! — раздраженно переспросила она.
— Думаю, да, — ответил старик.
— Когда?!
— Найдет время.
Девушка застыла в нерешительности, как дикая козочка перед широким и глубоким оврагом, который и перепрыгнуть надо, и боязно; затем повернулась и выбежала в горницу, крикнув уже оттуда:
— Бабник он!
Она легла на диван и притихла. Молчание девушки можно было истолковать по-разному: быть может, она решила, что раз уж пропала палка из дикой вишни, то и бог с ней, пускай, много ведь и других палок у старика, лишь бы Фирко сюда не являлся; но возможно, молчание означало, что если сунется в дом Колокан, то она за себя не ручается. Тези свесила на дощатый пол ногу и принялась постукивать по нему каблучком красной туфельки — все чаще, чаще, — но вдруг вскочила и подбежала к дедушке.
— Заколю его, если придет! — сквозь зубы сказала она. — Глазами буду колоть, словами! Что он о себе думает?! Думает, можно и так в жены звать? Мол, пойдем-ка, и все? Я ему не щенок, которому посвистел, он и мчится уже, рад-радешенек. Нет уж, все честь по чести пусть делает. Если чувство его от души идет, пускай потом и кровью докажет!
Она убежала обратно в горницу, снова легла, свесив теперь обе ноги, и, болтая ими, запела:
Киска краше всех зверят,
А Катюша — всех девчат.
Каталина Чюди!
Не иначе как эта Каталина Чюди — колючий розовый куст: Тези только произнесла ее имя и тотчас вскочила, будто укололась об острые шипы; опять вихрем бросилась к деду, дрожа и пылая.
— Бабник! Привык, что раз-два — и девчонка его! Да только я не такая, у меня душа есть, которую сперва понять надо. А он сразу цветок сорвать вздумал — чего захотел! — само собой, на шипы напоролся да убежал, как собака, раны зализывать. Теперь на свадьбу свою зовет, мальчишек с лентами подослал. Совсем ни стыда, ни совести! Думает, все такие, как его Чюди: поманит пальчиком — прибежим? Не дождется!
И она зарыдала.
— Ну, успокойся, успокойся. Конечно, не дождется, — нежно сказал старик, усаживая ее за стол напротив себя.
Тези села, уткнувшись лицом в ладони и вздрагивая всем телом; на лбу и висках у нее вздулись синие жилки.
— Ладно, ладно тебе… — приговаривал старик.
Девушка вскинула голову.
— Что «ладно»?! — часто моргая, спросила она.
— Не слушаешься ты доктора, вот что. Он ведь сказал, тебе покой нужен.
— Он и другое сказал.
— Ну да, ну да. Что красива ты, как цветок.
— Вот!
И только что плакавшая навзрыд Тези рассмеялась, будто после короткого дождя солнышко засияло; а чтобы не в одиночку ей веселиться, она налила дедушке еще палинки. Старик взглянул на стенные часы, где под розовым циферблатом качался маятник, и, подняв стаканчик, сказал:
— Полночь уже, Крещение наступает.
Отпив немного, добавил:
— Надо бы паремию прочесть.
Тези сходила в горницу и, вернувшись с маленькой книжицей, раскрыла ее. Пока она, шелестя страницами, искала паремию на Крещение, старик поудобнее устроился на стуле и прикрыл глаза — так земля ожидает дождя.
Девушка читала:
— «Господи, светом звезды указавший нам место явления единородного сына своего, к Тебе обращаемся, верой познавшие Тебя: дозволь нам приблизиться, дабы узреть лик Твой».
Она замолчала.
Старый Тимотеус сидел неподвижно, лицо его было спокойным и ясным. Задремал, наверно, подумала Тези и осторожно поднялась было, чтобы отнести книгу, но, только она шагнула, старик остановил ее тихим, как будто издалека прозвучавшим голосом:
— Прочти и Евангелие. От Матфея.
Девушка вернулась и негромко, почти выдыхая слова, стала читать Евангелие. Но когда дошла до места, где Ирод выведывает у волхвов о чудесной звезде, снова поглядела на дедушку; он дышал размеренно и спокойно.
— Вы слушаете? — осторожно спросила Тези.
Старик не ответил; с детства знакомые фразы Священного писания сморили его, и он уснул, как дитя.
Девушка прошла в горницу, поставила книжку на место. Царившая в доме глубокая тишина сковывала движения; к тому же в горнице было сумрачно; лишь рассеянный свет лампы, висевшей над столом, за которым спал дедушка, проникал сюда через открытую дверь да просачивалась сквозь окно белизна снега. Тези ходила по комнате из угла в угол, оказываясь то у двери, то у окна, и краски ее одежды то блекли, то вспыхивали, мерцая. Самые противоречивые чувства переполняли ее; от одних пробирала дрожь, другие сдавливали горло и сердце. Остановившись у высокой и всегда аккуратно прибранной кровати, терпеливо ждавшей свадебной ночи, она пересчитала подушки, девять их было, провела рукой по мягкому одеялу; пересчитала и мебель в комнате; каждый предмет возбуждал в ее памяти какой-нибудь день или случай. То и дело останавливалась она перед зеркалом и заглядывала в него, будто дикая козочка в шаловливый ручей; глаза ее в отражении сияли невиданными огромными жемчужинами. Радость охватывала ее, и она принималась вертеться, осматривая себя в зеркале и показывая своему отражению язык; так резвится теленок, когда лижет соль. Наконец она распахнула блузку и, стыдливо краснея, но не в силах отвести взгляда, залюбовалась тем, как играют желтый свет лампы и серебристое мерцание снега на большой и упругой ее груди.