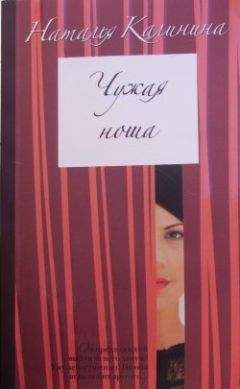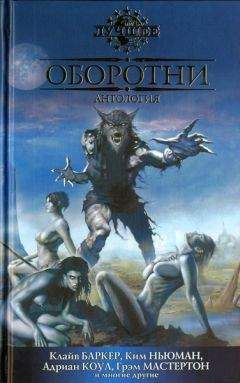Патрик Ковен - «Вертер», этим вечером…
— Девяносто семь. И вот уже десять лет она молчит. До сих пор никто не знает почему. Я подозреваю, что она просто больше не испытывает нужды говорить. Может, ей кажется, что она уже все сказала. Или сказала слишком много.
Орландо закинул ногу на ногу.
А Карола? Круглый год в этом особняке, в окружении стариков… Почему она не бросит этот странный образ жизни? Во всей этой истории был налет жертвенности и загадочности. Как и старики, она пошла на добровольное заточение. Можно сказать, отказалась от настоящей жизни. Предпочла уединиться со своими предками в глубине лесов, за толстыми стенами. Почему?
— Вы совсем не рассказываете о себе.
Она бросила на него дурашливый взгляд.
— Я видела вас в «Лоэнгрине». Немецкое телевидение транслировало ваш спектакль. Разумеется, это Эльза заставила нас посмотреть.
— Надеюсь, по другим каналам в тот вечер не было баскетбола. Но к чему вы это говорите?
Круговым движением она раздавила окурок в пепельнице, свободной рукой сильно потерев нос. Он так никогда и не поймет, почему именно этот жест заставил его окончательно признаться себе, что он по уши в нее влюбился.
Что-то подобное он чувствовал впервые после Антонеллы Маджиоратти.
Это было на втором курсе Туринской консерватории. Долговязая, рассеянная и загадочная девушка, которая рассказывала ему о Данте и целовала его пальцы в закоулках Нижнего города… Они строили планы на будущее: после женитьбы он будет петь, она же напишет сюиту по мотивам «Божественной комедии» и будет варить суп по-итальянски для кучи детишек. Она не вернулась в консерваторию ни в сентябре, ни в начале следующего учебного года, а вскоре он получил письмо, полное аллюзий из Греченто[1]. Между двумя цитатами из Алигьери в нем сообщалось, что Антонелла повстречала на пляже в Рапалло мускулистого сорокалетнего шведа, бывшего десятиборца, и теперь уезжает с ним в Стокгольм, где планирует заняться переводом величайшего итальянского поэта на шведский. Иногда он спрашивал у себя, по-прежнему ли она целует пальцы мужчин, которых любит.
— Вы не слушаете, когда к вам обращаются?
Он подскочил. Боже мой, наконец-то свершилось! Решено. Я увезу ее сначала в Вену, потом в Нью-Йорк, потом… что там дальше в программе гастролей? Я буду брать ее с собой повсюду. Мы поженимся там, где она захочет. Или не поженимся вовсе. Толчея журналистов — мы избежим этого, предупредив лишь друзей и Джанни. Музыка. Она войдет в тот момент, когда скрипки сменятся духовыми… Однако они пока еще здесь, и все их сердечные струны напряжены… Волна нахлынувших чувств… Последние ноты, разбросанные вперемежку, тонут в фанфарах, и мелодия затихает… Боже, я идиот, но какое это счастье!
— Простите. Иногда со мной такое случается.
— Что с вами случается?
— Иногда я не слушаю. Вы ведь тоже не слушаете, раз переспрашиваете.
— О чем переспрашиваю?
— Вы спросили меня, слушаю ли я. Я ответил: иногда со мной случается, что я не слушаю. И вы тут же спрашиваете, что именно со мной иногда случается. Значит, вы тоже не слушаете, когда к вам обращаются.
Она встряхнула волосами и залпом, как помощник корабельного кочегара, опустошила свой стакан.
— Господин Натале, — сказала она, — вам со мной скучно.
— И это великолепная скука.
Она взглянула на него. Между их лицами не было и тридцати сантиметров, и он услышал, как вдалеке, на другом конце света, глубокими и ровными барабанными ударами бьется ее сердце. Стоило лишь наклониться. Либо сейчас я ее поцелую, либо я осел.
— Отчего-то вы вдруг погрустнели.
— Так как внезапно обнаружил, что я более робкий, нежели думал. Такое не очень-то радует.
Она встала. Когда она клала деньги на стол, складки ее юбки заволновались.
— Нужно возвращаться, — сказала она.
— Похожая сцена есть в «Вертере», — ответил он. — Только там все происходит при свете луны и без пива. Но как раз в тот момент, когда он хочет сказать ей нечто важное, она говорит, что нужно возвращаться.
Она подошла к машине и открыла дверцу. Теперь ее силуэт был залит солнцем.
— Еще кое-что, господин Натале, напоминает вашу чертову оперу. Странно, что вам это пока не пришло в голову, ведь вы так часто ее играете.
Ее глухой болезненный голос дрогнул. Это из-за сигарет, которые она курила одну за другой без перерыва. Что-то было не так. Он подошел к ней. Его руки сами легли на ее плечи. Он впервые прикоснулся к ней. Вот-вот под его ногами разверзнется ужасная бездонная пропасть. Бедром он ощутил обжигающее тепло кузова «вольво».
— И что же это? — спросил он.
— Моя фамилия не Кюн, а Крандам. По одной простой причине: так зовут моего мужа.
Орландо не отпускал ее, его пальцы по-прежнему сжимали ее плечи.
— Ваш выход, Альберт, — пробормотал он. — Вас и впрямь не хватало для полноты картины.
Он даже не заметил, как она высвободилась. Нимбы святых на фасаде кафе переливались теперь всеми своими красками.
Музыка Массне легко поддается переложению для пианино. Чего не скажешь о произведениях многих других композиторов.
Наверное, это Карола зажгла свечи в зале… Ее отец спустился вниз с двумя канделябрами. Остальные ждали, рассевшись по креслам. Бледные лица в желтом свете. Видимо, этим они и похожи друг на друга. Но нет, было и кое-что другое: чрезмерная отрешенность во взгляде — самое неуловимое сходство из всех, которые только можно вообразить. А может, эта их манера сидеть, едва касаясь спинами бархатных кресел.
Эльза села за пианино. Как только ее пальцы коснулись клавиш, лицо ее, казалось, преобразилось. Она смотрела прямо перед собой, на тяжелые шторы, задернутые на ночь.
Карола устроилась в противоположном углу комнаты, на сером диване. На ней было темное платье, и в отблесках свечей ее глаза сделались травянисто-зелеными.
Невозможно было сказать, слушают они или нет. Должно быть, в их жизни было немало таких вечеров… Орландо казалось, что это всего лишь необходимый ритуал — сольный концерт Эльзы Кюн для всей семьи; достаточно было просто здесь присутствовать, сидя в неверном мерцании свечей.
Он встретился с Каролой взглядом. Они так и не поужинали вместе, как договаривались: она отказалась под тем предлогом, что старик-художник сегодня особенно плох. Тот с некоторых пор и впрямь чувствовал себя неважно, и в такие минуты она не могла оставить его одного — никто другой не знал, что делать в случае приступа. Орландо поужинал один в шумном придорожном ресторане жирными сосисками, кроша хлеб на бумажную скатерть. Он даже не притронулся к графину бесцветного вина, и громкоголосая смешливая официантка упрекнула его в этом. Он смотрел, как она взяла сигарету с круглого одноногого столика, видел, как ее ресницы затрепетали при первой затяжке.
Старая дама играла медленно, разрывая ноты, связанные между собой легато… Это была прелюдия «арии писем» из третьего акта. Шарлота одна дома, наступила зима, снежная или нет — тут уж все зависело от постановщика. В Большом театре, например, из-под сводов в этот момент рассыпались тонны мягких хлопьев. Героиня без конца перечитывает письма, которые Вертер шлет ей из своего изгнания. «Издалека пишу вам я — под серым небом декабря, что давит на меня как саван…»
Эльза запела тонким, скрипучим, однако не лишенным прелести голоском… тем самым голоском, который внушил Кароле отвращение к опере. Оно и понятно, такое не станешь слушать часто… Этот дрожащий голос затухал на низких нотах и избегал высоких. В своем роде Эльзу можно было назвать профессионалкой: пение для нее было постоянным трюкачеством с целью избежать трудных мест, однако ее тембр можно было назвать живым, даже мелодичным.
Орландо встал и облокотился на пианино, повернувшись таким образом, чтобы не терять из виду Каролу.
— А теперь дуэтом, — сказал он.
В скудном пламени, освещавшем комнату, вычурные завитки шевелюры Эльзы напоминали артишок…
Рот старой женщины зиял чернотой, глазницы из-за тени казались еще более глубокими. То была самая странная Шарлота, с которой ему когда-либо доводилось петь.
Эльза взяла аккорд, и он заметил, как дрожат ее пальцы на потускневшей слоновой кости клавиш. Она пела не во весь голос, лишь намечая мелодическую линию, которая от этого звучала еще более доверительно.
— Да, это я, и вновь я подле вас, но даже на чужбине я сердцем ежечасно с вами был…
Он заметил, как Карола напряглась. Ее руки сжимали подлокотники, в пальцах дымилась сигарета; прямая серая струйка дыма тянулась к погашенной люстре…
— Но что слова, когда я снова здесь?..
Эльза Кюн закрыла глаза, еще более замедлила ритм, и ее сухие губы приоткрылись — увядшие, безутешные губы старой Шарлоты, все еще хранящие вкус единственного поцелуя юноши, обезумевшего от любви… Именно такой образ возник в его голове, когда он взглянул на нее. Кем стала Шарлота после смерти Вертера? Какая судьба ее ждала? Она была обречена стареть в сожалениях, угрызениях совести и хлопотах по хозяйству… Должно быть, она была похожа на эту одряхлевшую даму, в чертах которой изредка сквозила прелесть некогда молодой девушки — прелесть, следы которой не стерло даже неумолимое время…