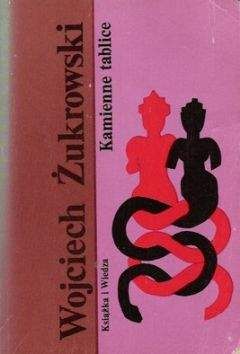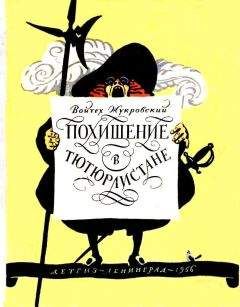Нина Садур - Иголка любви
Он заглянул ей в глаза, как строптивый и тупой больной. И он выждал какой-то миг, целый миг он колебался. И этот миг звенел между ними, как стрела, которая не знает, в кого вонзиться.
— Меняй работу, — сказал он.
Аллочка дернулась, и щеки ее стали белыми, как бумага. Она уставилась на него глазами, в которых он увидел самый неподдельный страх. Острая жалость сдавила его сердце. Но так нужно было сделать.
Но он считал виноватым только себя.
И такой злой и виноватый, он спускается вниз, на ходу застегивая шубу, и вдруг видит — у окна стоит та несовершеннолетняя. И вот что интересно, стоит она не одна, а в окружении таких же несовершеннолетних. И что-то его так поразило, с такой силой, словно неожиданно его стукнули в грудь кулаком. Он застыл прямо на лестнице, на полушаге, даже не сообразив как-то отойти в сторону, чтоб незаметно понаблюдать за ними, раз захотелось понаблюдать, нет, он встал посреди лестницы и впился в них своим острым взглядом. И чем больше он смотрел на них, тем больше поражался.
Они совершенно не замечали его. Они стояли словно бы в круг, склонившись голова к голове, словно в центре круга на полу лежит нечто замечательное и они это нечто молча созерцают. На самом-то деле они стояли группками: три мальчика, девица и сама эта в своем синем халате. Они стояли вот как: она (его больная) спиной к автомату, почти навалившись на него, а все вокруг нее. Будто бы говорит: вот я вам всем позвонила, и вот вы у меня все. Вот как они стояли. Два парня и девица к ней ближе, а один за их спинами как бы сам по себе. Словно один пришел. И она, его больная, вертит в пальцах сигаретку (а на лестнице курить не разрешается) и вот-вот закурит (а до этого вообще пряталась, когда курила), подносит сигарету к губам — и сразу две зажигалки к ней, а она все время отвлекается, забывает про сигарету, захлебываясь, болтает с девицей, и обе они хохочут как истерички. А она, его больная, от своего рассказа даже прыгает (в особо смешных местах). А сама в халате, принесенном бабушкой, вдруг засунула руки в карманы и стоит в халате… А пришельцы небрежно-дорого одеты, видно — из хороших семей, чьи-нибудь дети. Словно бы она (его больная) какое-то особое дитя, а к нему гости, тоже дети, но с удивлением на нее глядят, как на чужую, потому что она не нарядная и лицо простое, без краски. И опять неправда. Она очень легко с ними со всеми и любима ими, легко, бездумно, как подруга по шалостям, которую можно забыть, но которую помнят, потому что еще не прошла пора шалостей и легкости этой детской.
Вот он стоит и все это разглядывает, мрачнея все больше. Уже давно надо пойти, в любой миг кто-нибудь оглянется и увидит окаменевшего доктора Дашевского, и будет вообще непонятно, какое мнение о его поведении. Но что-то его еще держит. Ага. Вон тот, что самый длинный, в дубленке, великан какой-то, а не подросток, хорошо сложен, акселерат, белокурый, ну, красивый, пожалуй. Отбрасывает волосы со лба, жестикулирует и все время к той, другой, что пришла… ага… ну вот тот вообще думает лишь о жвачке, пусто глядя в переносицу любому, кто к нему обращается… Так, а вон тот, что стоит сам по себе, за спинами остальных, словно он отдельно пришел. Бледнолицый мальчик с нездоровыми тенями под яркими томными глазами. Узенький, как фарфоровая безделушка, светлый, малокровный. И странно-холодный бледный ротик, как у девочки.
Несовершеннолетняя через головы к нему больше всех обращается и не хохочет как сумасшедшая, когда обращается, а говорит серьезно и тихо. И все оглядываются на него и ждут, что ответит. А он то отвечает, то вообще отворачивается к окну. Тогда несовершеннолетняя смотрит на вторую девку, мол, видала? — и они обе прыскают как дуры. Вот и все, что можно узнать, стоя на полушаге на лестничной площадке. Дети кусают детей, убивают детей и еще меньшим детям не дают даже вздохнуть.
Тот, с глазами, вдруг дернулся и резко обернулся к нему. И вдруг все замолчали и обернулись вслед за тем. И стало так тихо, что он услышал далекий и свободный рокот самолета. Правда услышал. И удивился — даже шумы больницы вдруг стихли, только эти подростки выжидающе замерли внизу и сумасшедший самолет над всеми.
Он прошел мимо них вниз.
— До свидания, — неуверенно пронеслось ему вслед.
«Господи, как в школе», — подумал он устало.
А вопила-то не хуже простой бабы, когда надо было.
Однажды в его жизни случился совершенно кошмарный случай. Когда ему исполнилось тридцать два года. Однажды Витька (а он уже тогда жил как сейчас, Роман был маленький, а разрыв — свеж) пригнал очередную партию девочек, целый табунчик, штук пять, и все одинакового качества (он никогда не приводил таких, чтоб одна намного лучше других, и эти как матрешки или денежки, и все из ПТУ — там они были сговорчивы, бессмысленно-веселы и легки). Им не хватило вина, они стали звонить куда-то, бежать, нигде ничего не было, а раз не было, то хотелось сильнее, в дымной сутолоке на него наплывали лица, иссушенные стыдной жаждой, какие-то фигуры метались в комнате, и он сам с ними, вдруг откуда-то поступил сигнал, и они хватают какую-то машину и несутся туда, где дадут вина. Потом опять несутся, и опять. И он помнит, что ровно в двенадцать он должен уснуть, иначе не сможет работать, а это исключено. И он все время смотрит на часы и делает какие-то сложные подсчеты — успеть домой к двенадцати, но и вина достать. Он успел к двенадцати-ровно.
Он проснулся, хотел найти на ощупь тапки и не нашел. Он удивился… Кто-то рядом спал, стянув с него одеяло, от этого он и проснулся — от холода. Он сердито дернул одеяло на себя, рядом сонно застонали, заворочались. Он встал, тут же ушибся о край стола, опять удивился — стол тут никогда не стоял, он обошел его, злясь и мучаясь жаждой, он думал только об одном — о воде, холодной, из-под крана, воде, он бы много дал за стакан воды, нет, лучше за кувшин или ведро воды. Он бы выпил ведро воды. Он ткнулся в дверь. Двери не было.
Была стена. Нет, это была дверь, как-то особенно плотно закрытая. Он стал шарить по стене, ища выступы, означавшие, что это дверь. Ручку. Была стена. Гладкие обои. Он замер совсем, не дыша. В темноте, в странно измененной комнате всюду — спали. Он услышал посапывание, сонные стоны, вздохи. Всюду в темноте спали. Он даже не стал искать выключатель — раз исчезла дверь, то и все остальное — соответственно. Он стоял, боясь сделать шаг, боясь наступить на кого-нибудь, и тот закричит в темноте. Его квартира его предала. Он понял, что умер. Он содрогнулся, тошнота подкатила к горлу, он понял, что если дверь сейчас не вернется на место (где бы она ни была, но пусть вернется, он все простит), если она не вернется — он умрет.
Он сжал пальцы, впившись ногтями в ладони, он глубоко вздохнул, разжал пальцы и медленно стал вытягивать руки вперед. Он подкрадывался своими преданными пальцами к стене. Он делал это медленно, чтоб дать ей время образумиться и вернуться (он вспомнил: «одеяло убежало, улетела простыня», идиотский смех клокотнул в горле, но спазм задавил смех, он сглотнул), он медленно поднимал свои руки, и его пальцы… они никогда… они всегда были ему верны, его умные пальцы врача, его гордость, его смысл. Они не дрожали, получив сигнал не дрожать, и тянулись к тому месту, где должна быть дверь. Вот-вот они коснулись обоев… так, все правильно, на стене обои, не вся стена состоит из дверей. Пальцы немного отдохнут на обоях, понятных, голубоватых обоях с серыми цветочками и серебряными полосками. Он помнил рисунок и цвет своих обоев. Так ярко встали перед глазами этот рисунок и цвет, что сами пальцы сейчас все это осязают: рисунок и цвет. Они знают больше, чем он, они сами что-то знают помимо него, его неповоротливый мозг не всегда успевает за ними (он в этом убеждался не раз), и сейчас они видят голубоватые обои с цветочками и серебряными полосками. Ну вот, а теперь они чуть правее, так, еще правее, так, еще правее, тут скоро начнется выступ двери. Интересно, как интересно, вчера в начале вечера он шел по улице, а навстречу ему… Кто-то шел ему навстречу, какой-то знакомый. Он решил вспомнить — кто это шел, и дал сигнал своим пальцам — остановиться. Но они были сами по себе, они не слушали трусливых сигналов его мозга.
И правильно (они никогда не подводили), ничего в той встрече интересного нет.
Боже! Боже, сделай так, чтобы я не сошел с ума, а как-нибудь все это объяснилось. Не было выступа двери. Никакой двери не было.
И в тот миг, когда он окончательно понял, что умирает, что его маленькое перепуганное тело отрывается само от себя и несется с бешеной скоростью в жуткую ледяную мглу, тут — снаружи, из-за окна звук заводимой машины. Кто-то среди ночи заводит машину, собрался ехать.
И этот звук.
Он захохотал как сумасшедший. Ну конечно, он же приехал сюда вчера! Это не его квартира!
Больше он никогда, почти никогда не уезжал пить в чужие квартиры. Он стал жить только у себя. Вот какой случай был в его жизни.