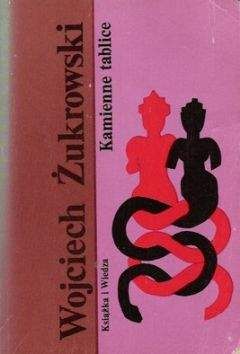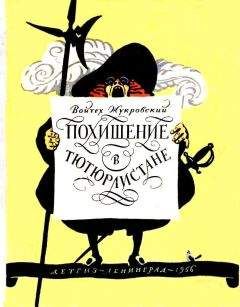Нина Садур - Иголка любви
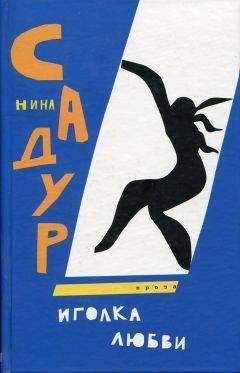
Обзор книги Нина Садур - Иголка любви
Нина Садур
Детки в клетке
(повесть)
Она за ним из последних сил следила распутным, злым от боли взглядом. Взгляд был острый и беспомощный, как у бездомной кошки. Бездомностью от нее несло да преступной болезнью. Когда такие к нему попадали, у него сразу резко портилось настроение. Вплоть до отчаяния какого-то. На таких он больше всех орал. Ее высокая температура ползла все выше. Поэтому лицо ее разгоралось буйным пламенем, опасно лоснилось, и в спутанных, влажных волосах оно нервировало его. Но он никогда не позволял себе паниковать. Кроме того… Но он себе в этом потом признался. Потом, когда уже ничего не оставалось, кроме вереницы признаний самому себе, подсчетов, просчетов и промахов. Он сказал себе: «Я сразу все почувствовал. Ах, я дурак!» А сейчас он был врач в хрустящем халате и тугом галстуке. И ослепительная шапочка его была сдвинута на левый висок, а под ней его крутые хорошие кудри с красивой проседью и парадное лицо. И он, глядя на эту упрямую сучку, разозлился не на шутку, потому что черт ее знает, что с ней — она вся горит, вот-вот начнет терять сознание, — так разозлился, что усы его встопорщились и дышать он стал с присвистом, давясь яростью и раздувая интеллигентные ноздри своего красивого еврейского носа. Он отступил на шаг, измерил ее всю предельно презрительным взглядом и как крикнет: «Что ты с собой делала?!» Это был рассчитанный прием — он знал, она должна вздрогнуть от этого «ты» с непривычки — хотел застать ее врасплох, ну чтобы она разревелась — поняла, некому тут с ней цацкаться — не у себя дома, и система тут жесткая, люди все чужие, незнакомые — ей останется только сломиться, смириться, во всем признаться. Пока не поздно. Минуты-то ведь уходят, а пальпировать живот она вообще не дает от дикой боли.
Трусила, защищалась как тигрица, хватала его чистые, смуглые руки, и влажные ее пальцы неприятно отдавались в нем, возмущая его стерильную докторскую глубину.
Ни черта на нее этот прием не подействовал, она только сильнее стала дрыгаться, как-то изловчилась и поддала ногой Вовке — второму дежурному врачу. Так это получилось возмутительно, что он заорал на самого Вовку: «Ну что с ней делать-то?! Что стоишь-то?!» — орал он на Вовку, с которым больше, чем с другими, любил дежурить. И Вовка тут же налился злобой, как индюк, к тому же стукнутый этой бабой в грудь (получилось как дурак, недотепа), подскочил к ней и тоже стал орать, подражая его интонациям. Так они вдвоем ее атаковали, попеременно менялись местами — то он прыгал у ее яростно пылающего, обалдевшего от боли лица и доказывал ей ее же выгоду, тряся сложенными в горсть пальцами у самого ее носа (она даже жмурилась, боялась, наверно, что в глаз ткнет), а Вовка тем временем пытался проникнуть в ее преступное лоно, чтоб хоть как-то понять, что там она себе наделала и можно ли еще на что-то надеяться (они знали только, что плод вышел еще дома, а каким образом она сделала себе криминал, она не признавалась), — то, наоборот, Вовка нависал над ней толстым яростным лицом, а он занимал Вовкину позицию.
И их тройной крик висел в приемной.
— Дрянь! Дрянь! — завопил он наконец в отчаянии и ударил ее по щеке.
Она подскочила, поглядев на него с изумлением и таким неподдельным упреком, что он фыркнул и отвернулся, пряча щербинку в зубах. И опять все в нем отозвалось, содрогнулось в тревожном предчувствии.
— Катетер, да? Ты катетер себе вставляла, дуреха? — спросил он упавшим, обессиленным голосом (тут же вслед за криком, грубостью он — таким голосом, это действовало). И она закивала, закивала, безобразно распустила лицо, готовясь заголосить, вспомнив все, что вызвало в ней его ужасное слово «катетер», и тело ее, длинное, белое тело ее содрогнулось, готовясь забиться в горе, в страшном горе оскорбленного бабьего естества. Но он, как опытный дирижер, одним взмахом пересек ненужный взрыв, опустил свою твердую руку на ее дрожащее плечо.
Он дал ей время ощутить всю надежную, умную твердость его теплой руки и довериться ему.
Он работал в отделении патологии беременности уже десять лет и знал, как себя держать с больными, этими большей частью ночными женщинами. Он чувствовал их каждую каким-то звериным, нервным чутьем, не подводившим его почти никогда. Он, если надо, давал им оплеухи — если они упрямились, не говорили, каким образом сделан криминал, а драгоценные минуты их жизней уходили, и капли крови утекали, и страшная температура тлела под их глупой кожей. И тогда, если упирались, — он трескал их по щекам, не сильно — не для боли, а для обиды.
В операционной она распоясалась совсем. Она скидывала маску с лица и ловко хватала всех проходящих за халаты. Она ко всем приставала, трусливо и заискивающе спрашивая, будет ли ей больно, и все вырывались, бормоча, что все терпимо, очень терпимо, но когда ей попалась Аллочка, то Аллочка сухо усмехнулась, сказала: «Не знаю, не знаю, я никогда этого не делала с собой». Он сразу же поднял лицо от умывальника и посмотрел на Аллочку, и Аллочка поспешно закивала — нормально, все терпимо.
А он, проходя мимо нее, безумно белой и длинной на столе, подмигнул ей весело, что, мол, все будет нормально!
…Вот что было-то — она усмехнулась ему в ответ.
Да, и в этом он признался себе потом — что она тоже сразу его увидела. Но им обоим было тогда страшно некогда, их разделяла стена гремящей, грубой боли, сквозь которую они еще не могли прорваться друг к другу. «Но это было лучшее время в наших отношениях, эти три больничные недели», — с недоумением и болью признался он себе в этом.
В тот период, когда стал себе во всем признаваться.
Эх, если б он знал, с самого начала знал, что не было никаких отношений, а были его тридцать пять лет, обостренные, как нож, которым нечего резать.
Конечно, никакая маска на нее не подействовала, и она страшно бранилась и кричала тем звериным криком, каким кричат, когда не действует обезболивание. «Она либо алкоголичка, либо наркоманка», — как-то устало решил он.
Но она не была ни тем ни другим. Маска на нее не подействовала потому, что она была бестолкова. Она потом призналась, что боялась задохнуться этим терпким газом и набирала его в рот и выдувала украдкой, не втягивала в себя.
Да, она во всем была горестно бестолковой. Она сама знала это и даже как-то пыталась использовать это свое качество, еще неумело, по-детски выставляла свою беззащитность, чтоб ее жалели, но и тут у нее ничего не выходило путного — кроме стыдливых жалких подачек ничего она не получала за это.
И еще он тогда же понял, как тщательно ему нужно беречься от нее, потому что вот с ним-то она и расцветет в хорошую породистую женщину.
После операции все разбрелись кто куда, он сел писать историю ее болезни, она, видя, что все ее бросили, разревелась не на шутку, засобиралась домой. Стала слезать со стола, причитая и стеная как-то по-голубиному жалко и густо, и, вся в измятой, истерзанной рубахе, оглушенная, безобразно косматая и бледная, зашлепала босиком в поисках выхода. А он, совершенно окаменев, какой-то миг созерцал эти сборы. Но тут же опомнился, издал вопль ярости, все снова сбежались и, крича как сумасшедшие, загнали ее снова на стол.
«Она идиотка», — понял он.
Ночь была тяжелая. Двадцать семь поступлений, одно с летальным исходом. К концу ночи он вообще забыл о ней, видя, как она безмятежно спит, вытянув детскую руку, охваченную пластырем для капельницы. Слюнка стекла по щеке на подушку. «Как это они, — подумал он тоскливо, — чем моложе, тем безжалостнее к себе, распутничают как-то остервенело, словно истребить себя стремятся».
Ей не было еще восемнадцати.
— Вот так-то, Вовка, — сказал он Вовке, снимая запачканный халат. — Вот такие дела. Видал, соплячка совсем, а уже вон что.
— Да брось ты, Марек, — сказал Вовка, мстительно глядя в окно, за которым светало. — Не грызи ты себя из-за них всех. Твое дело скоблить. — А сам шмыгнул носом. Не нравилось ему все это.
Марек любил с ним дежурить.
А Вовка любил дежурить с Мареком.
Марека Дашевского любили в отделении все. Почти.
В тот день после дежурства он пришел какой-то разбитый. Он устало и с легким отвращением пошарил в холодильнике в поисках еды. Но еды не было, был кофе, остатки и с цикорием. Он безропотно сварил себе кофе и залез в ванну. Вода успокоила его, и он ощутил нечто вроде блаженства, но пустой желудок сжимался и грозил разболеться. Надо было идти в магазин. Но он не мог идти в магазин, он устал после дежурства. Когда он вылез из ванны, зазвонил телефон. Это звонила Ира. Можно было сказать Ире, чтоб она принесла еды, но Ира придет с едой, приготовит, а потом сядет в уголок дивана и станет ждать. А ждать ей от него было нечего. И он сказал Ире, что после дежурства устал. А она и так знала, что после дежурства, но, отупев от гонки за ним, уже не понимала, когда можно звонить, чтоб напасть на удачное для нее настроение.