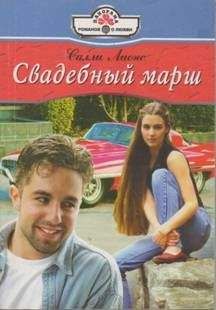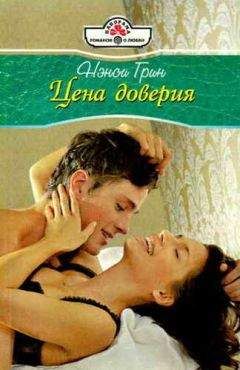Айрис Мердок - Ученик философа
Том поздоровался и сел у кухонного стола. Потом встал, накрыл на стол и достал сок из холодильника. Ему были выданы две колбаски, он поблагодарил и съел их. Эмма выпил сока, но ничего не ел, ничего не говорил и не глядел на Тома.
Наконец Том сказал:
— Спасибо тебе за эту ночь. Но ты на меня сердишься.
— Эта ночь была неповторимой, — сказал Эмма.
Затем встал и ушел к себе в комнату.
После его ухода Тома охватило черное, непроглядное страдание, странно пронизанное счастьем. Чуть позже Эмма вышел из комнаты, произнес какие-то незначительные фразы, всячески давая понять, что они вернулись к нормальной жизни, и Том, к своему удивлению, осознал, что это вполне возможно. С тех пор все стало как раньше и все же не так, как раньше. Ни странных взглядов, ни новых, необычных касаний или контактов. Но оба словно стали двигаться грациозней и в более просторном помещении. В воздухе висело новое осознание, но оно сохраняло неопределенность, Эмма порой дулся, но так же, как раньше, не чаще и не реже обычного. Вечером, когда пришла пора ложиться спать, каким-то образом стало ясно, что Том должен лечь у себя, а не у Эммы. Том не расстроился. Он лежал в постели и беззвучно смеялся. И в последующие дни, когда «та ночь» даже не упоминалась, он не был несчастлив. Его пропитывало возбуждение, некая тайная нежность, от которой улучшалось его телесное здравие и природное благодушие. Сегодня (в день прибытия письма от Розанова) Эмма был особенно раздражителен и обидчив, но по-прежнему не заговаривал о «событии». Неужели, подумал Том, оно так и уйдет в прошлое необсужденным, как сон, постепенно утончаясь до небывшего?
— Ты пойдешь? — спросил Эмма.
— К Розанову? Конечно, пойду. Неужели ты бы не пошел? Мне смерть как любопытно.
— Ты можешь сейчас пойти, сегодня утром. Еще нет одиннадцати. Сколько туда идти?
— Двадцать минут. Что бы это могло быть? Может, что-нибудь ужасное?
— Например, он тайно обвенчался с твоей матерью?
Том расхохотался и резко оборвал смех. Боже мой! Такого он не вынес бы, но, конечно, это всего лишь шутка…
Эмма продолжал:
— Не пугайся, тогда он бы написал не «мне нужно Вас кое о чем спросить», а «мне нужно Вам кое-что сказать».
— Но о чем он хочет меня спросить?
— Что-нибудь насчет Джорджа?
Тома охватило внезапное разочарование, затем испуг.
— Боже. Надеюсь, что нет. Не хватало только вляпаться в эмоции Джорджа. То есть… Боже, надеюсь, Джордж не узнает, что я ходил к его гуру, — тогда точно будет беда.
— Ты же к нему еще не ходил. Может, лучше и не ходить.
— Ой, нет, я пойду! Прямо сейчас пойду!
— Тебе надо побриться.
Том помчался в ванную, тщательно побрился и причесался.
— И галстук надень.
Эмма разглядывал дверь ванной комнаты, и теперь Том увидел у него на лице знакомое вопросительно-насмешливое выражение. Том повернулся, подошел к другу и обнял его за шею.
— Ладно, Эмма. Я не собираюсь об этом говорить, если ты не хочешь, но что-то случилось, одному богу известно, что это было, и я только хочу тебе сказать, что меня это совсем не беспокоит, и самое главное во всем этом, я считаю, то, что я тебя люблю.
— Я тебя тоже люблю, болван ты этакий, но из этого ровным счетом ничего не следует.
— Ну, это ведь уже много? А в ту ночь…
— Гапакс[94].
— Что?
— Это такая вещь, которая бывает только однажды.
— Вроде рождения Христа?
— Не говори глупостей…
— Ну, мир ведь можно изменить…
— Ой, заткнись, я тебя умоляю. Надень галстук.
Том нашел галстук.
— Как ты думаешь, ботинки надо почистить?
— Нет. Ты же не к Господу Богу идешь.
— Да неужели. Ты меня проводишь?
— Нет. Проваливай.
По дороге к розановскому жилищу Том успел накрутить себя до лихорадочного состояния. Он воображал всевозможные постыдные, чудовищные, катастрофические, мучительные ситуации с участием Джорджа, Розанова и его самого. Розанов хочет, чтобы Том передал Джорджу, что он должен навсегда оставить Розанова в покое. Розанов хочет, чтобы Том утешил Джорджа и попросил его не расстраиваться из-за того, что философ занят и не может уделить Джорджу времени. (Том хорошо представлял себе, как Джордж отреагирует на такое послание.) Розанов хочет, чтобы он заставил Джорджа опубликовать поправки к какой-нибудь статье, в которой Джордж исказил или украл идеи Розанова. Том отчаянно пытался придумать что-нибудь, что Розанову могло быть нужно от него, притом не связанное с Джорджем, и больное воображение подсказало ему, что, может быть, Джон Роберт собирается открыть, что это он — его настоящий отец! Тому никогда раньше такое не приходило в голову, и сейчас он не стал долго об этом думать. Негодующая тень Алана Маккефри в компании с тенью Фионы Гейтс изгнала эту идею из головы Тома. Любовь к родителям вдруг затопила его, еще больше встревожив. А они, вечные утешители, дружественные духи, снова остро напомнили Тому, как хрупко счастье и как опасен, непредсказуем и чертовски, утомительно могуществен может быть этот эксцентричный философ.
Прибыв к дому 16 по Заячьему переулку, Том нервно ткнул пальцем в звонок, и тот едва слышно хрюкнул. Том ткнул еще раз, сильнее, и извлек громкое нелепое шипение. Дверь немедленно отворилась, и большое, дородное тело философа заполнило проем.
Джон Роберт ничего не сказал, но неловко отступил в темную прихожую, чтобы пропустить Тома, который неловко вступил в дом. Джон Роберт продолжал пятиться, Том следовал за ним, и таким образом они дошли до двери гостиной, где философ повернулся к юноше спиной и потопал вперед.
Снаружи стоял ослепительный апрельский день: синее небо, стремительные белые облачка, измученный ветром «оранжевый пепин Кокса», унылый забор, в котором местами не хватало штакетин, неухоженная, взъерошенная мокрая трава. Комната, напротив, была темная, узкая, с низким потолком, крохотным камином и каминной полкой, больше похожей на щель.
— Прошу садиться, — произнес Джон Роберт, — Прошу. Садиться.
Том осмотрел два безнадежно просиженных кресла с низкими подлокотниками и, поскольку повиноваться приходилось быстро, протянул руку, выхватил из-под бока у Джона Роберта чрезвычайно шаткий стул, поставил его на черный свалявшийся коврик у камина и сел.
Джон Роберт взглянул на кресла и дернулся, словно хотел сесть на подлокотник одного из них, но передумал. Том вскочил.
— Нет… сидите… я… там другой стул… в прихожей…
Джон Роберт протолкнулся мимо все еще стоящего Тома и вернулся с другим стулом, поставив его спинкой к окну. Затем закрыл дверь в прихожую. Оба сели.
Том почувствовал, что должен что-нибудь сказать, поэтому сказал: «Доброе утро», довольно сдавленно. Он не только никогда раньше не беседовал с Розановым, но даже не бывал с ним в одном помещении и не имел случая разглядеть его лицо. Да и сейчас это было нелегко, поскольку ослепительный свет бил философу в затылок, а от бегущих облаков комната словно кренилась, наподобие корабля.
— Мистер Маккефри, — сказал философ, — Я очень надеюсь, что вы простите мою вольность… если это вольность… что я попросил вас выслушать… то, что я хочу сказать…
Тому сжало сердце страхом, в котором он распознал чувство вины. На пути ему ни разу не пришло в голову, что Джон Роберт хочет его в чем-нибудь обвинить. Что он сделал? Что он мог сделать, чем навредил этому великому человеку, чем задел его, обидел, встревожил? Том обыскал свою совесть, которую тут же начало снедать глобальное туманное раскаяние. Каким из своих неидеальных поступков он согрешил? Быть может, Джон Роберт думает, что Том поощрял Джорджа… или подсказал Джорджу… Но, растерянно обвиняя себя в неизвестных грехах, Том почти сразу понял, что Джону Роберту тоже не по себе, а может, он даже боится чего-то.
— Пожалуйста, — сказал Том, — вы меня ничем не… то есть если я могу вам чем-то… быть полезен… или…
— Да, — ответил Розанов, — вы можете быть мне полезны…
Он уставился на Тома, сморщив изрытый лоб и выпятив большие, влажные, цепкие губы.
«Боже, — подумал Том, — Это точно насчет Джорджа».
— Но прежде чем я объясню… или, во всяком случае… представлю… то, что хотел… я задам вам несколько простых вопросов, надеюсь, вы не возражаете.
— Нет.
— И, с вашего позволения, как я уже упомянул в своем письме, я желал бы… точнее, я требую, чтобы все сказанное в этой комнате осталось между нами, или, выражаясь проще и сильнее, осталось тайной. Вы понимаете, что это значит?
— Да.
— Вы никому не передадите этого разговора?
— Да. То есть я хочу сказать, нет, никому…
Тому не пришло в голову оспорить это требование, которое, в конце концов, могло быть и необоснованным, ведь ему еще ничего не рассказали. Но власть философа над ним уже стала неоспоримой. В любом случае Том сейчас пообещал бы и это, и вообще что угодно — так велико было его любопытство.