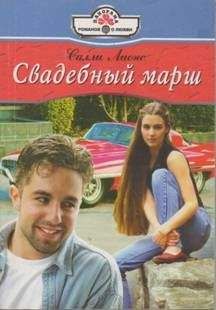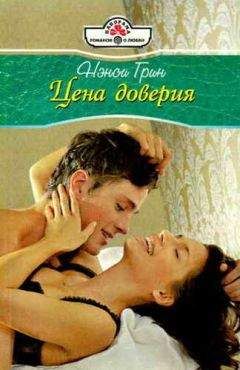Айрис Мердок - Ученик философа
Тут Хэтти запнулась, и оба расхохотались.
— Это невозможно!
— Вы читали его вслух, как будто понимаете!
— Ну да, оно прекрасно… но о чем это?
— А как вы думаете, о чем это, какую сцену рисует поэт?
Хэтти молча глядела на текст, а отец Бернард любовался ее гладкой мальчишеской шеей, на которую рассеянно спадали беглые завитки бледно-светлых волос, выбившихся из сложного узла.
— Не знаю, — ответила она. — Раз он говорит, что там нет ни лебедя, ни набережной… может быть, это река?
— Хороший вывод. Это же стихи!
— А в конце — волна.
— А «nue»?
— Кто-то обнаженный, может быть, кто-то купается без одежды.
— Да. Похоже на головоломку, правда?
— Он отворачивается от «gloriole», это значит что-то фальшивое, показное, правда? Слишком высокое, чтобы до него дотянуться, по сравнению с… нет, не так… и птица не может быть подлежащим, потому что тогда «longe» неправильно, мне кажется… поэтому, наверное, подлежащее тут «regard»… но…
— Подлежащее не имеет значения…
— Для меня — имеет! Одиночество, неинтересное одиночество, отражает свое унылое существование без лебедя во взгляде, который он отвратил от фальшивого великолепия, такого высокого, что не дотронешься, которым многие небеса пестрят себя золотом заката… может быть, он думает, что закаты — это пошло… потом «но» — но почему «но»? Что-то или кто-то, то ли его взгляд, то ли беглая птица, нет, теперь понятно, это его взгляд, скользит томно, нет, в истоме, как сброшенное белье… нет, не так… к чему относится «longe», может быть, к птице? Может быть, птица подобна белью, может быть, это белая птица, которая ныряет… как… одежда, которая… нет, это торжество ныряет… и взгляд в истоме скользит по торжеству… то есть… тогда понятно, почему «но», все очень скучно, пока мой взгляд в истоме не… нет… если (но почему «если»?) птица ныряет как сброшенное белое белье, мой взгляд в истоме скользит за ней, радуясь рядом со мной или с ней, в волне, которой ты становишься, твоему нагому торжеству… ой! нет, не то…
Хэтти разволновалась. Одной рукой она рассеянно вытащила из волос шпильки, собрала рукой шелковистую золотисто-серебристую массу и запихала себе за воротник.
Отец Бернард тоже разволновался, но не из-за грамматики. Он понял, что никогда не пытался понять это стихотворение, хотя бы и так сбивчиво, как сейчас пыталась делать Хэтти. Какое слово к чему относится? Да не все ли равно? Общий смысл стихотворения был совершенно ясен отцу Бернарду — точнее, он давным-давно создал свой собственный смысл и возвел его на пьедестал.
Он сказал:
— Давайте попробуем восстановить общую картину. Вы сказали, что это река и кто-то купается нагишом. Сколько всего людей в этих стихах?
— Двое. Рассказчик и купальщик, — ответила Хэтти.
— Хорошо. А кто они?
— Кто? Ну, наверное, поэт и какой-нибудь его друг…
Воображение отца Бернарда, овладев стихотворением, воспользовалось тем, что пол пловца не указан. В блаженных, никому не запрещенных мечтах священник вообразил очаровательного спутника, с томной грацией птичьих крыльев сбрасывающего нижнее белье, мальчиком. Финальный образ был особенно дорог священнику: юное тело ныряет и вздымается в поднятой им волне, мальчик отбрасывает назад мокрые волосы и смеется. А над всем этим — зеленый берег реки, солнечный свет, тепло, безлюдье…
— Как вы думаете — это любовные стихи? — спросил он.
— Может быть.
— Да как же иначе! — почти вскричал он. И подумал, что она еще не пробудилась, — Поэт и его…
Он запнулся.
— Подруга, надо полагать, — сдавленно сказала Хэтти.
Ее шокировало явное безразличие отца Бернарда к радостям поиска глаголов и согласований существительных с прилагательными; и еще она заметила, в какую растерянность повергла его своей немецкой тирадой.
— Подруга! Что за выражение. Его любовница.
— Почему не жена? — спросила Хэтти, — Он был женат?
— Да, но это не важно. Это стихи. В стихах женам не место. Он с красивой молодой женщиной…
— Откуда вы знаете, что она красивая?
— Знаю. Попробуйте увидеть.
Хэтти сказала уже мягче:
— Да, кажется, у меня получается… это как та картина Ренуара… «Купальщица с собакой»… только там… ну… там две Девушки, а не мужчина и девушка.
Это отца Бернарда не заинтересовало, или, во всяком случае, он не стал развивать эту тему, но воспоминание о пышной зелени и картине импрессиониста вторило его умственной лихорадке.
— Да-да. Солнечно, зелено, вода сверкает, солнечный свет сквозь листву пестрит… да, это хорошее слово, пестрит обнаженное тело…
— Но там же не солнце пестрит девушку, a gloriole, и не девушку, а это небеса пестрят себя…
— Не важно, вы должны воспринимать картину целиком — белье, белое, как птица, соскальзывает…
Образ, с повелительным очарованием воздвигшийся в воображении священника, лилейно-белый и светящийся молодостью, принадлежал Тому Маккефри.
Примерно в то же время, как отец Бернард позволял себе вольности с тенью Тома Маккефри, заходя при этом довольно далеко, настоящий Том, стоя в гостиной Грега и Джу, изучал с удивлением и тревогой письмо, только что найденное на коврике у двери. Его послали почтой в Белмонт, откуда, очевидно, его кто-то принес сюда. Письмо гласило:
Заячий пер., 16
Бэркстаун
Эннистон
Уважаемый м-р Маккефри!
Не будете ли Вы так добры навестить меня по этому адресу в удобное для Вас время? Мне нужно спросить Вас кое о чем. В ближайшие несколько дней я буду находиться дома до полудня.
Искренне ваш, Дж. Р. Розанов P. S. Я буду Вам чрезвычайно благодарен, если Вы сохраните мою просьбу в тайне.При виде этой поразительной подписи Том, конечно, первым делом подумал, что письмо предназначается Джорджу. Он еще раз осмотрел конверт, на котором Джон Роберт четко и уверенно написал «Томасу Маккефри» и добавил совершенно абсурдное «эсквайру».
Вошел Скарлет-Тейлор. Том протянул ему письмо.
— Что скажешь?
Эмма прочел письмо, нахмурился и вернул его Тому.
— Ты его уже подвел.
— Что ты хочешь сказать?
— Он попросил тебя держать письмо в тайне. А ты его показал мне.
— Ну, да… но…
— Тебе повезло, я не собираюсь разглашать твою оплошность.
— Он просил меня держать письмо в тайне, но я же ему этого не обещал…
— Любой истинный джентльмен выполнил бы…
— Черт, да я же это письмо получил только минуту назад.
— Не вижу, что это меняет.
— У меня не было времени подумать!
— Это показывает твою инстинктивную безответственность, тебе даже на минуту нельзя ничего доверить.
— Ты просто питаешь к нему романтические чувства, тебе хотелось бы, чтобы он тебе написал, а не мне.
— Не говори глупостей.
— Ты завидуешь!
— Не будь ребенком!
— Ты дуешься.
— В глаз захотел?
— Да ты никого не ударишь.
— Почему это я не могу…
— Я не сказал, что не можешь, — сказал, что не ударишь. Эмма, не сердись на меня… ты ведь не сердишься, правда? Нам нельзя ссориться, нам нельзя ссориться, нам нельзя…
После судьбоносного визита Тома в комнату Эммы их отношения стали странно неловкими. То событие, тот визит, было чем-то ноуменальным[93], словно они выскользнули из времени, из заурядного человеческого бытия. Они не занимались любовью в тех, довольно механических, смыслах, которые Том привык вкладывать в это выражение. Нет, они мгновенно стали любовью. Для Тома это было так, словно его принял в объятия ангел, словно его обхватили крылья ангела, который был и не был Эммой. Это объятие было чистейшим счастьем, чистым блаженством, чистой, незамутненной, не омраченной проблемами сексуальной радостью. Том не помнил, чтобы, после того как Эмма принял его в объятия, они вообще двигались. Насколько ему помнилось, они лежали, сжимая друг друга, абсолютно недвижно, в зачарованном экстатическом трансе, совершенно расслабленные, но и в столь же совершенном напряжении, охваченные необъятной, непреодолимой силой. Не выходя из транса, Том уснул. Он проснулся ближе к рассвету и тут же понял, где он, и еще понял, что Эмма, лежа все так же близко, но уже не сжимая его в объятьях, тоже не спит. Как только Эмма ощутил, что Том просыпается, он пробормотал: «Иди, Том, иди».
Том немедленно повиновался, встал с кровати Эммы и вернулся в свою, где мгновенно уснул блаженным, глубоким, счастливым сном и проснулся только в девятом часу утра.
Он быстро оделся и побежал в кухню, где, судя по звукам, готовился завтрак. Эмма, жаривший колбаски, взглянул на него и отрывисто пожелал доброго утра. Полностью одетый, включая костюм-тройку и цепочку от часов, в узких очках без оправы, Эмма выглядел чуждо, почти враждебно.