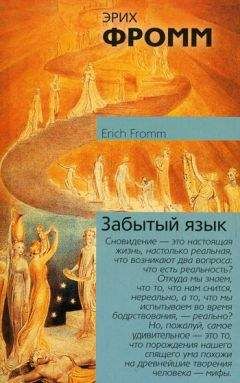Эрих Кош - Избранное
Мы попросили дирекцию высказать свое мнение о том, как отразится эта мера на интенсивности посещения выставки. Приятный женский голос ответил нам по телефону, что, надо думать, количество посетителей возрастет. Между тем в беседе с нашим специальным корреспондентом представители милиции и контролеры заявили, что бесперебойной работе выставки может способствовать дисциплинированность и сознательность самих посетителей».
Это было в субботних газетах. Между тем погода портилась, наступала пора последних мартовских метелей. Резко похолодало, подморозило. Небо хмурилось, тротуары и мостовые почернели от шлака, которым посыпали улицы, и копоти, оседавшей на снег.
В воскресенье рассвело поздно. Мрачное небо низко висело над городом. Было совсем темно, когда зашевелились обитатели нашего дома. В моей квартире, надо мной, внизу — на всех этажах. Проснулся и я. Беспокойно повертелся с боку на бок. Открыл глаза. Под дверью хозяйкиной комнаты виднелась полоска света. Я встал, подошел к окну. На улицах ни души — ни людей, ни машин. Но в окнах уже горел свет, как в будничный день, когда все торопятся на работу. Я оделся в полумраке, но в ванную пойти не решился. Сел в кресле у окна и стал ждать. Вскоре хозяйка с барышней ушли. Из всех квартир, словно вода по водосточным трубам, стекал по лестнице народ. Потом в доме водворилась тишина, зато на улице под моим окном человеческое море плескалось и билось о стены домов. Я глянул вниз. Население нашей улицы выстраивалось в шеренгу. Я подождал, пока они двинутся, а когда звуки шагов замерли за углом, заскочил в ванную, наспех привел себя в порядок и торопливо сбежал вниз по лестнице. На одном дыхании. Ни разу не вспомнив про прежнее свое решение. В таких случаях самое лучшее — позабыть.
Выйдя из дому, я сейчас же свернул на соседнюю улицу. Пока меня не узнали, не схватили, не линчевали. Боковыми уличками стал пробираться к Теразиям.
Небо опустилось на крыши домов. В густом мглистом воздухе кружились редкие снежинки. Было то же неприятное чувство, какое бывает, когда ранним зимним утром, невыспавшийся, окажешься на улицах еще не пробудившегося города.
С Балканской и с вокзала текли людские толпы. На улицах горели фонари, троллейбусы не ходили. Не видно было и продавцов газет. Словно звезды на заре, постепенно бледнели голубые витрины еще запертых магазинов. Люди ежились в зимних пальто. Не весело им. Не празднично. Лица строгие, сосредоточенно строгие и печальные.
Толпы текли Балканской, Призренской, Сремской, Князя Милоша и Коларчевой, со стороны Калемегдана и Славии, по Нушичевой и узкой Добриньской. Степенно, неторопливо. Медленной процессией. Большей частью по четверо в ряд. Осторожно продвигаясь скользкими, обледенелыми тротуарами. Здесь были и учреждения, и организации, институты, средние школы и восьмилетки. Заводские рабочие, крестьяне из близлежащих деревень и целые группы провинциалов. Через Теразии они устремлялись к Ташмайдану.
А день так и не разгулялся. Улицы окутывал холодный сумрак, темно-серое, грязное небо по-прежнему низко висело над городом, не пропуская света. Постепенно гасли электрические фонари. Но радости и оживления не прибывало. Не кричали продавцы газет, бездействовал транспорт — лишь изредка проедет роскошный автомобиль и тихо, не сигналя, скроется за первым поворотом. Кафе и рестораны закрыты. Монотонно звонят колокола; завывают заводские сирены; снизу, со стороны вокзала, доносятся гудки паровозов; никогда еще город не выглядел таким удручающе бедным, обшарпанным, запущенным и грязным, как в это утро всеобщего паломничества к киту. Может, люди по этой ненастной погоде нарочно надели старые башмаки и поношенные пальто. Но почему же тогда дома казались такими серыми, бесцветными, неприглядными, облезлыми? Все это напоминало мне голодный, осиротевший город времен войны.
Я незаметно пристроился к одной из колонн. Никто на меня не посмотрел. Люди молчали, глядя в спины шагавших впереди или себе под ноги. Когда путь преграждала другая колонна, останавливались и терпеливо ждали — безропотно, покорно, молча. В спокойной уверенности дожидались своей очереди. До каждого дойдет очередь. Даже дети не плакали и не донимали вопросами матерей. У них были строгие, серьезные лица, они чинно держались за руки взрослых. Ждали. Продвигались. И снова ждали. Молча. Лишь переступит с ноги на ногу какой-нибудь старик. Люди шли на заклание, сами не ведая того, отдавали себя на съедение прожорливому дракону, поджидавшему их к утренней трапезе в пещерах Ташмайдана, Но кто отважится их остановить, у кого хватит смелости сказать им правду! И у меня слова застыли в горле. Застряли в нем, не шли.
Уже когда проходили мимо парка, мне удалось укрыться за деревом. Я стоял, тяжело переводя дыхание. Отдышавшись, я зашагал, как бы прогуливаясь, и на тропе столкнулся с двумя стариками. Они выступали не спеша, выкидывая вперед свои черные палки. Поглощенные разговором, они не заметили меня. И их влекло на Ташмайдан.
— Грандиозно! — воскликнул один.
— Страшно! — отозвался второй.
Я пропустил их. Спустился Добриньской и боковыми улочками вышел к пристани. Под прикрытием высокого берега я почувствовал себя увереннее. Приметив портовый кабачок, не раздумывая завернул в него и заказал ракии. В тесном помещении сидели двое оборванных небритых грузчиков, загулявших, видимо, со вчерашнего вечера. Поднявшись из-за стола, они неверной походкой направились к двери. Один задержался возле моего стола, уставившись на меня налитыми кровью глазами, но товарищ потянул его за рукав.
— Ладно, не трогай его! Пошли смотреть кита! Посмотрим, какой такой оболтус пьет одну только воду!
Грузчики удалились, а следом за ними официант бесцеремонно выставил и меня:
— Закрываемся! Идем смотреть кита!
И я опять очутился на улице. У моста стоял пустой автобус; я влез в него, не зная, куда он идет и куда мне надо самому. Автобус развернулся и поехал на ту сторону реки. Я подсел к водителю — кроме меня, в автобусе никого не было.
— Вам куда? — спросил он.
— В Земун. Срочное дело! — солгал я.
— Понятно. Я тоже еще не сдал смену. Это последний рейс. И сразу же — смотреть кита.
Высадил он меня посреди города.
— Дальше не еду! — сказал он; я только молча прикоснулся рукой к полям своей шляпы. Автобус круто развернулся, обогнув сквер, и на полной скорости помчался назад, к Белграду, подскакивая на ходу и выпуская вонючий, едкий дым.
Я был совсем один на опустевшей улице. Гулкое эхо моих шагов говорило о том, что дома тоже пусты, покинуты. Город вымер. Люди ушли из него. Куда? Зачем? Какая угроза нависла над ними? От какой катастрофы бежали они?
Может быть, и меня подстерегает незримая опасность? — подумал я, охваченный безотчетным страхом. Я прибавил ходу. Побежал. Задыхаясь, словно обезумевший взлетел на взгорье, возвышающееся над городом, и только тут, под деревьями, почувствовал себя в безопасности и опомнился. Воробьи, которых я вспугнул, остановили меня и вернули к действительности. Единственные живые существа, попавшиеся мне на пути.
Я осмотрелся. Тихо. Подо мной лежал вымерший, покинутый Земун — ни звука не доносилось оттуда. Полная неподвижность. А там, за рекой, где раскинулся Белград, вздымались столбы черного густого дыма — дым поднимался из тысячи труб, над заводами и домами, сливаясь в темное, огромное облако, раздувшееся и вытянутое, словно исполинский кит. Тяжелое, угрожающее, нависло оно над городом, готовое погрести его под собой, задавить. Отравить, задушить своим черным дымом все живое, поглотить безвозвратно.
Дрожа от волнения и холода, я притаился, скорчившись на камне под деревом, и из своего укрытия, словно сова из густых ветвей, разглядывал город, над которым нависла смертельная опасность. «Началось! — думал я, не в силах унять дрожь. — Не говорил ли я? Не предсказывал ли? Не предрекал ли этот страшный конец!» И вспомнилось мне вдруг откровение Иоанна. Вот что там сказано: «И увидел зверя, выходящего из моря, и был этот зверь о семи головах, с десятью рогами, а на рогах его десять корон, и названы головы именами погаными». Так оно и есть — вышел из моря огромный кит, по прозванию Большой Мак, и поднялся над городом, ибо кто как не он тот зверь? И где тот, кто сможет сразиться с ним? О, кто имеет уши — да услышит! Кто имеет очи — да увидит! Проглотит он их, проглотит, а они не ведают, не знают, не чувствуют близкого конца.
Только я видел это со своего возвышения. Я провел здесь весь день, наблюдая за Белградом, курившимся дымом, и видел, как грозное, смертоносное облако все ниже опускалось над городом, катастрофически увеличиваясь в размерах, наливаясь и чернея. Только мне удалось вырваться и бежать, только мне удалось спастись, словно Ною во время потопа, словно Лоту из Содома и Гоморры. Ибо только я один с самого начала понимал, что такое этот кит. И пока угасал день, и сгущалась тьма, и облако все плотнее приникало к земле, подминая под себя трубы и крыши домов, я сидел на своем камне и с содроганием повторял: «КОНЕЦ СВЕТА! КОНЕЦ СВЕТА! КОНЕЦ СВЕТА!»