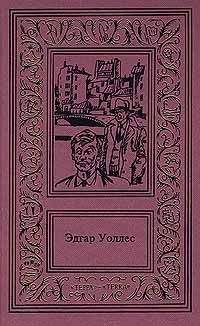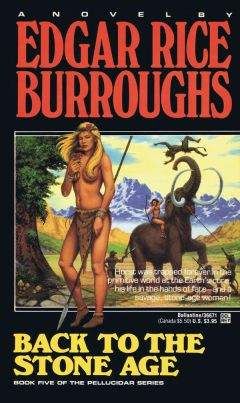Антонио Муньос Молина - Польский всадник
– Daddy!
Именно в тот момент она осознает, что это обращение слишком инфантильно, но еще не знает, что никогда больше не произнесет его. Отец не отзывается, и его пальто нет на вешалке в прихожей. Надя смотрит на гравюру всадника и впервые замечает, что он тоже похож на человека, хранящего тайну. Когда через час отец вернулся, она уже почти приготовила обед и сухой мартини для него. Однако с того момента в обыденных поступках их совместной жизни, нежных поцелуях в щеку при встрече и прощании, заботливости, с какой Надя готовила отцу коктейль, подавала еду и убирала с маленького столика с лампой полную окурков пепельницу, заронилось зерно притворства, неверности и скрытности. Оба интуитивно чувствовали это, но впервые решились открыться друг другу лишь много лет спустя. В доме был телефон, звонивший только когда кто-нибудь ошибался номером, и Надя, до того дня не замечавшая его существования, теперь смотрела на него, будто предчувствуя неизбежность внезапного звонка. Она думала о картонной коробке, спрятанной в резервуаре, и вспоминала убийц из детективов, живущих в страхе, что труп их жертвы будет обнаружен. По ночам Надя не могла заснуть – даже когда слышала, что вернулся отец. Она ворочалась в темноте, измученная жаром одеял, зажигала лампу, неохотно открывала книгу и сразу же закрывала ее, чувствуя искушение пройти потихоньку в заднюю часть сада и осмотреть при свете фонаря содержимое коробки. Оно представлялось ей чудесным и ужасным, охраняемым смертельным проклятием, как сокровища из сказок Кальехи, которые читал ей отец в Америке. Иногда она чувствовала во рту вкус мужского поцелуя, не похожий на те, что оставляли на губах целовавшие ее мальчики; этот вкус, намного более резкий, таил в себе страсть и опасность, силу, говорящую о желании. Однажды утром она не смогла удержаться от искушения подойти к школе и перед молчаливым зданием с запертыми дверьми поняла, что начались рождественские каникулы. По вечерам на улице Нуэва загорались гирлянды лампочек, на площади Генерала Ордуньи стояла елка, освещенная и украшенная большими шарами с металлическим блеском, а над балконами полицейского участка висела мигающая надпись цветов национального флага. В тумане ледяных сумерек возвращались в город сборщики оливок, «лендроверы» и тракторы с облепленными грязью колесами, запряженные цугом мулы, везшие вересковые прутья и мешки с оливками. В конце декабря город пропитывал запах жесткой мешковины, промокшей теплой одежды и оливок, раздавленных большими коническими камнями на маслобойнях, открытых до поздней ночи. Там горели прожектора, освещавшие горы оливок среди непрерывного гула хриплых мужских голосов, ржания вьючных животных и рева моторов «лендроверов». Гуляя по окраинным улицам города и вспоминая утро, когда она была на рынке с Праксисом, Надя встречала сборщиков оливок, возвращавшихся из садов в старой, запачканной одежде, с усталостью на лицах – возможно, среди них был и я.
Я возвращаюсь домой с артелью отца, дядей Рафаэлем, дядей Пепе и лейтенантом Чаморро, до такой степени изможденный, что даже не могу напевать про себя английские песни или придумывать свою будущую жизнь. Я захожу на кухню, где на огне уже кипит горшок с ужином: мать и бабушка Леонор говорят, что отец почувствовал себя намного лучше и, не слушая их увещеваний, отправился один в поле. Он умирал от желания вернуться к работе и даже не взял с собой таблетки, прописанные доктором Мединой. Кажется, отец слишком задерживается, и это их беспокоит: вдруг с ним опять случился приступ и он лежит на земле, как умирающее животное? Я тороплюсь, мне хочется отправиться к друзьям и погулять по улице Нуэва и кварталу Кармен – вдруг мне повезет и я встречу Марину. Я умываюсь холодной водой, шлепая себя ладонями, лицо у меня загорело, и я выгляжу старше, потому что не брился уже несколько дней. Мои ладони загрубели, оттого что я целый день колотил шестом по ветвям оливковых деревьев, у меня невыносимо болят руки и поясница, но я не хочу отдыхать – будь моя воля, я бы даже не ужинал. Прыгая через две ступеньки, я поднимаюсь в свою комнату на верхнем этаже и, переодеваясь в чистую одежду, слушаю пластинку на полную громкость. Неистовый голос Джима Моррисона, «Вrеак on through to the other side», и музыка возрождают меня, избавляя от усталости и реальности, как будто я бросаюсь в бурные воды реки. Я слышу стук дверного молотка и вздрагиваю от ужаса, думая, что гудок, звучащий на площади Сан-Лоренсо, доносится из машины, на которой привезли отца. Я выглядываю на лестницу и с облегчением узнаю его голос – такой же сильный и решительный, как и прежде, до свалившей его болезни. И вот я снова изгой и бродяга без корней и привязанностей, я молча ужинаю, глядя в телевизор и не обращая внимания на деда Мануэля, жалующегося на скудость урожая оливок в этом сезоне и вспоминающего – в давно известных всем нам выражениях – сказочное изобилие прежних лет.
– Был год великого урожая, – говорит он, – когда ветви оливковых деревьев ломились от плодов и сбор оливок длился до Страстной недели. В плодородные довоенные годы шли настоящие дожди – не чета нынешним, ведь теперь от полетов на Луну и запускания в небо ракет совсем расстроился механизм времен года.
Это было невыносимое повторение одних и тех же выдумок и воспоминаний, как будто люди в Махине обладали лишь кольцевой памятью, в которой время никогда не двигалось вперед. Я думал, что тоже буду затянут в этот круговорот, если не убегу как можно раньше. Я встаю из-за стола, отказавшись от десерта, отец смотрит на меня с неодобрением и говорит, что завтра же я должен подстричь волосы. Он велит не возвращаться поздно, потому что нужно рано вставать. Я ничего не отвечаю, выхожу, хлопнув дверью, и слышу, как отец окликает меня, но мне не хочется возвращаться. Я иду вверх по улице Посо, представляя, будто лениво и бесстрашно шагаю по тротуарам Нью-Йорка и подражаю вполголоса Лу Риду, «Таке a walk on the wild side», хотя в действительности не понимаю и половины того, что он поет. Возможно, я прохожу мимо Нади и не вижу ее, не знаю, что она тоже кого-то ищет и, не подозревая того, стремится к страданию с той же решимостью, что и я.
Зимние вечера в конце года, допоздна освещенные витрины на улице Нуэва и ярмарочной площади, громкоговорители, передающие рождественские песни в крытой галерее на площади Генерала Ордуньи, акации, украшенные мигающими лампочками, Вифлеемская звезда над башней с часами, женщины, торопливо шагающие с пакетами, завернутыми в подарочную бумагу, блеск огней на влажном асфальте и брусчатке. Но в холодной темноте боковых улочек не было магазинов с игрушками и мигающих гирлянд, а все те же запертые подъезды и мрачные таверны, где по-прежнему напивались белым вином и водкой их обычные посетители, со съехавшими набок беретами и выбившимися рубахами. Пытаясь найти друзей, я зашел в клуб «Масисте» и в «Мартос», но, наверное, они отправились в кино и в этот вечер я уже не смогу их увидеть. Я шел по улице Нуэва среди утомительного шума толпы и рождественских песен, ненавидя встречные лица и город, где я был заперт, как заключенный в тюремном дворе, измеренном шагами во всех направлениях. Я чувствовал непреодолимое отвращение ко всем лицам, излучавшим тупое счастье – тошнотворное, как ложка микстуры или масла клещевины. Ища Марину, которая, наверное, уехала на каникулы в другой город, я удалялся от последних огней улицы Нуэва, шел вверх по пустынному проспекту Рамона-и-Кахаля и доходил до ее дома, где не горел свет и не лаяли собаки. Мы с Надей помним одну и ту же зиму в одном городе, и часть наших жизней как будто представляет собой общее, удвоенное одиночество. Каждый из нас знает и может рассказать воспоминания другого: о поисках кого-то, кто появлялся и исчезал как призрак, об одиночестве среди толпы, о блужданиях по плохо освещенным улицам и безлюдным окраинам, где нас переполняли через край преувеличенные страдания нашей юности.
Так же как и Марина, Праксис вернулся в Махину, когда снова начались занятия в школе. Надя лежала на кровати в своей комнате, не желая ни читать, ни слушать музыку. В столовой зазвонил телефон, и она тотчас вскочила. Отец позвал ее и сказал, передавая ей трубку:
– Спрашивают тебя.
Он оставил на столе газету, которую читал, и так неслышно удалился, что Надя заметила это, только услышав, как закрылась входная дверь. Отец еще не вернулся, когда она вышла с большим пластиковым пакетом в руке, мысленно повторяя, чтобы успокоиться, название улицы, номер дома и квартиры, где ждал ее Хосе Мануэль. Надя нажала кнопку звонка и услышала шум шагов за дверью: наверное, он смотрел в дверной глазок на ее крошечное вогнутое изображение, нервничая намного больше, чем она сама, гораздо более неуверенный, вынужденный притворяться слишком опытным, чтобы не казаться уязвимым.
Но я не хочу, чтобы Надя продолжала рассказывать, и даже отказываюсь представлять очевидное – то, что произошло в тот день и повторялось много раз до середины июня. Я не хочу представлять не только дрожь первых поцелуев и нетерпеливость рук и языков по уже несомненной дороге в спальню, но и неясную, волнующую игру в подпольность – не только политическую, и легко предсказуемые песни, которые он ставил ей, и мечты, униженные пустословием и ложью. Я смотрю на нес – обнаженную, зовущую меня в вечернем полумраке или бессонным утром, и не могу вынести очевидности того, что другие мужчины тоже обладали ею и она улыбалась, протягивая к ним руки и раздвигая ноги, – так же, как принимает меня. До этого времени я не знал, что любовь желает распространять свою власть на время, когда сама она еще не существовала, и что можно испытывать дикую ревность к прошлому.