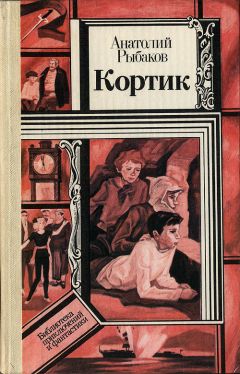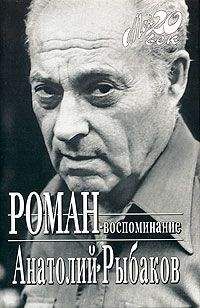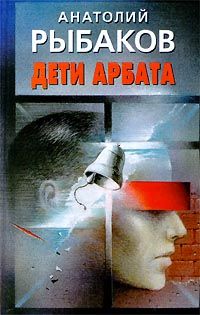Анатолий Рыбаков - Екатерина Воронина
Билетерша, худенькая женщина в пальто, валенках и сером платке, сидя у входа на табурете, разговаривала с другой женщиной, зашедшей со двора.
– А где квартира Свердловых? – спросил у нее Леднев.
– Квартира семьи Свердловых во внутреннем флигеле двора, – ответила она готовой фразой.
– Что там сейчас?
– Ничего, люди живут.
Да, люди живут! И делают свое дело. Делает свое дело и он и будет делать. Чем-то вдруг очень маленьким и незначительным показалось ему то, что произошло с пим. Подумаешь, сняли с работы! Ведь он еще живой, жизнь бьется и бурлит в нем. Ого! Он еще покажет себя.
Он шел по оживленной улице. Февральское солнце, сияющее и уже теплое, искрилось на снегу. Год назад, в такой же февральский сияющий день, Катя впервые пришла к нему. Для них начиналась новая жизнь, все у них было впереди! И несмотря на все, что с ним произошло, все еще впереди! Еще не раз будет сверкать на снегу февральское солнце. Набегают на него тучи, но оно выходит из-за них и светит вечному и нетленному миру. Прожит большой кусок жизни, но жизнь еще не кончена. Сколько ему? Сорок один. Не так уж много. Была бы вера в жизнь и в то, что он нужен этой жизни. А то, что было, не у него одного оно было.
Леднев открыл дверь своей квартиры. Ирина сидела на кухне, ужинала, болтала с Галиной Семеновной. Леднев услышал, как она сказала:
– Все это сплетни. Терпеть не могу такие сплетни!
И обиженный голос Галины Семеновны:
– За что купила, за то и продаю. Люди говорят. С нее-то все и началось.
И Леднев понял, что они говорят о Кате. Он хлопнул дверью. В кухне замолчали. Потом Ирина крикнула:
– Папка, ты?
– Я.
– Иди ужинать.
– Потом, – ответил Леднев и прошел в кабинет.
Он снял пиджак, повесил на спинку стула, прилег на диван.
Сначала он зажег лампу, потом погасил ее – свет резал глаза. Из кухни доносились голос Ирины и короткие ворчливые реплики Галины Семеновны.
Он лежал, закрыв ладонью глаза, потом почувствовал шелест платья, прикосновение.
На ковре, рядом с диваном, на коленях стояла Ирина и смотрела на него. Когда он открыл глаза, она протянула руку и провела ею по его волосам так, как это делала Катя.
– Ты что, Иришка?
Она склонилась к нему.
– Так просто пришла. Ты на меня сердишься?
– За что?
– Помнишь, когда Екатерина Ивановна была у нас, так все нехорошо получилось. И я и Галя… Так все неприветливо.
– Зачем ты это говоришь?
– Она могла обидеться.
– Она не обиделась.
– Потом – помнишь? – я не поехала в Кадницы. Она могла подумать, что я не хочу с ней ехать.
– Нет, Ирина, она не подумала. И ты ни о чем не думай.
– Я не хочу, чтобы вы из-за меня ссорились.
– К чему ты это говоришь? – Леднев снял руку с ее головы.
– Ах, папка, не раздражайся! – Ирина снова приникла к нему. – Ведь я хочу сделать лучше. Хочешь, я с ней поговорю?
Леднев поднялся.
– О чем ты собираешься с ней говорить?
– Ну, скажу… Не знаю… Что тебе надо, то и скажу.
Леднев засмеялся, потрепал дочь по щеке.
– Дурочка ты! Лезешь не в свои дела. Я в твои дела не лезу.
Он встал, поцеловал дочь в голову.
– Ни с кем не надо говорить. Все наладится, все будет хорошо. Скоро навигация, я получу назначение в порт, уеду, ты приедешь ко мне, и мы опять заживем хорошо и весело. Правда?
– Да, да, папочка, – говорила Ирина, – ты не огорчайся. А может быть, все-таки мне позвонить ей?
Глава тридцатая
В первых числах марта Катя получила записку отца.
«Приезжай, Катюша, – писал Иван Васильевич, – а то, может, и не застанешь нашей бабки в живых. Хочет видеть тебя, все время вспоминает…»
До поворота на Кадницы Катя доехала рейсовым автобусом, затем пошла пешком.
На полях среди осевшего, ноздреватого снега темнели на пригорках черные проталины.
По дороге, тоже черной, местами еще твердой, местами уже скользкой, со следами прошлогодней соломы и навоза, расхаживали большие белоносые грачи. Облака отбрасывали длинную, медленно движущуюся тень на дальние леса и деревни. Пахло талым снегом, а в лесу – мокрой хвоей.
На лесной тропинке еще лежала корка снега, но уже бугрились корни деревьев, воронки вокруг них протаяли до земли. Среди голых ветвей прыгал зяблик, маленький, с белыми полосками на крыльях… Пинь-пинь, пинь-пинь…
Острые весенние запахи вернулись к Кате. Мир стал светлым, теплым, сияющим. Не верилось, что с бабушкой может что-нибудь случиться. Казалось, что когда Катя подойдет к дому, то увидит ее на крыльце, бодрую и деятельную.
Вот и колхозный сарай, сеялки, бороны, культиваторы, вытащенные для ремонта, топкая навозная жижа вокруг. Знакомые домики, заборы, палисадники. Большие синие мухи греются на солнце, точно прилипнув к стенам и заборам.
Катя остановилась. С горы открывался знакомый вид на Волгу. Она тянулась длинной, извилистой лентой, белизной своего снежно-ледяного покрова сливаясь с низким левым берегом. Справа темнели леса. Солнце ослепительно блестело на снегу. С железных крыш уже сошел снег, но еще видны были на них пятна влаги и поднимались голубоватые дымки испарений. Катя первый раз подумала, что все это вечно живое и сияющее, наверное, уже не для бабушки. И быстро пошла к дому.
* * *Гроб стоял на столе в большой комнате наверху.
Внизу хлопотали соседки, сидели незнакомые старики и старухи, разговаривали будничными голосами, точно и не было в доме покойника. Наверху пахло еловыми ветками, раскиданными по полу и на столе. Оба зеркала, в гардеробе и то, что стояло у стены, заставленное фикусами, были завешены черной материей. И без того темная комната стала от этого еще темнее.
Отец сидел у стены. Он поднял голову и, не вставая, кивнул Кате.
Катя подошла к гробу. Ей казалось невероятным, что в лице бабушки, хотя и неестественно пожелтевшем, с подобранными под платок седыми волосами, таком знакомом и человечном, уже нет жизни. Но выпростанные и вытянутые вдоль туловища руки, большие, желтые, распухшие, странно неподвижные, были мертвы.
Вот и кончилась жизнь. Ничего больше не надо бабушке: ни забот, ни дома, где прошла жизнь, ни вещей, ни людей, ни маленьких внуков, которым вязала носки и варежки.
Из Куйбышева приехали дядя Семен и его жена Дарья-баламутная, как называла ее бабушка, из Роботков – старшая бабушкина дочь, Елизавета.
Гроб вынесли из дома. На улице стояла толпа. Молодых Катя не знала, старых узнавала постепенно, точно память ее стирала с этих лиц покров старости и обнажала когда-то хорошо знакомые черты.
Выносом распоряжались два отставных капитана – Арефьев и Вахрушин.
Тыча палкой в телегу, Арефьев сердито командовал: