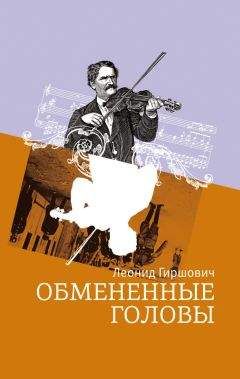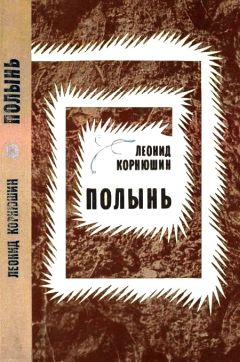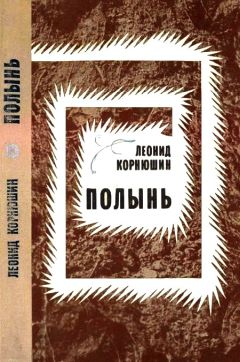Леонид Гиршович - Шаутбенахт
Вопреки чувству, рассудок приказывал верить тому, что это я отражаюсь в зеркале или что это я обречен десятилетиями желтеть на карточке: школьная гимнастерка перехвачена ремнем под самой грудью, как туника на даме, позировавшей республиканцу Давиду, — чтобы полутора столетиями позже открыткою лежать на прилавке специализированного магазина «Книги, картины, открытки, плакаты», куда я захаживал едва ли не каждый день.
Право, лучше признать себя в ребенке, давно и бесследно исчезнувшем, чем в старом дядьке из Зазеркалья, с которым хоть и сжился, но не слюбился, о нет! Привык. Уже безразлично. Прежде, в щегольскую пору жизни, неумение щегольнуть собой компенсировалось таким «луна-парком» an sich, что было не до чужих празднеств, куда к тому же и не зван.
Лара, та, естественно, была в ладу со своим отражением — точнее, из него «не вылезала». Женский пол прилежно исследует себя в своей телесности. Но внешность, которую жизнь выставляет на аукцион, как сахарный диабет, смертельно опасна, если не быть постоянно начеку.
Мы ездили одним маршрутом, ее возила мама, меня — домработница. Они садились у к/т «Нева», мы у к/т «Октябрь». Выйдя, шли в шаге друг от друга, кастово-отчужденно. Это нормально: она с матерью, я с домрой — а ее мама не будет играть на народном инструменте (она «портниха по дамским шляпкам»). На школьном гардеробе немало детей подвергалось процедуре совлечения рейтузов, в том числе и она, меня же почему-то рейтузами не мучили.
Иногда мы с Клавой предусмотрительно доходили до «Невы» — если накануне не получалось ввинтиться в первый подъехавший автобус. У моей Клавы благоразумие носило характер схваток: стоит ей раз поглядеть на спины, изнутри прижатые к створчатым стеклышкам неоткрывшихся дверей, — два дня затем мы совершаем моцион, проходя остановку назад, к площади Восстания, где автобусы сильно закладывало пассажирами. Но упреждающая жертва, каковою является благоразумное поведение, не в ее натуре. Авось откроет дверь. А там, глядишь, пробьем себе путь, как две капли «сонорина» в переполненном носовом проходе. А можно набраться нахальства и переть с передней по праву женщины с ребенком. Разве Клава не женщина? Разве я не ребенок? Нет, домработница с барчуком — это не женщина с ребенком. Это сразу два пережитка, им нет места в нашем автобусе. И остальным тоже нет места.
Иногда сослепу кто-нибудь мог посоветовать: «А ты за маму-то свою держись». От незаслуженного почета у Клавы лицо делалось каменным. Не иначе как со страху быть разоблаченной мною: «А это не мама…»
Кому домработница, а кому учительница жизни. Из ее разговоров я понял, насколько мужчина и женщина одержимы друг другом, хоть и по-разному. «Валя, вона дохлого вида, может мужчину привадить, ему никто другой не нужон» (подразумевался милиционер, с которым Валя «танцует фокстрот на перине»). Кроме того, я посвящен в тайны ее организма: «Поясница болит. Холод из нее выходит».
На торфоразработках она надзирала за пленными немцами. Один летчик был. Карл. Красивый. Про немцев интересно, хотя про плен не так: плен представлялся рабством, а жизнь рабов — это сплошное истязание. Но Клава на вопрос, давали ли им хоть немного отдыхать, отвечала: конечно, если устал, мог отдохнуть — другое дело, когда видят, что ничего не делает. И опять двадцать пять: там у них была женщина-гермафродит, стоило другому кому заночевать у нее, «все, больше никто не нужон». Она и Клаву приглашала, но та не пошла. На заводе имени Карла Маркса, где она работала перед войной, проходил практику один студент. Аптович. Красивый. Тоже еврей, и тоже мать чинила ей обиды, а отец симпатичный, хоть и слушался жену.
Все в жизни зарифмовано. У каждого свои рифмы, свои «тоже». Для меня изо дня вдень рифмовалось: я // золотая косичка в автобусе. На первых порах это создает иллюзию постоянства в жизни: что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. Но это только на первых порах — еще будет новое, много нового. Когда с годами разгонишься и верстовые столбы замелькают, то дух захватывает от скорости, с какой пронеслась жизнь. Разве что, в отличие от Клавиной — или от Лариной, — моя сложилась, грех роптать.
«Может, Аптович и не погиб на фронте?» — думал я. Клава сама себе врет и этим утешается. Да еще по старой памяти сводит счеты с его матерью — а заодно и с мамой, зарифмовав их. «Если б я оделась как Злата Михайловна, я стала бы еще красивей, чем она». Считать маму красивой могла только Клава.
IIСовместные поездки с девочкой и с ее мамой, не замечавшими нас, продолжались, пока я ходил в нулевку и в первый класс. В школе у нас была своя нумерация: курс музыкальных наук нулем начинался, нулем завершался, вынуждая на вопрос «в каком ты классе?» возводить на себя напраслину: «В первом» — хотя ты уже во втором. Или пускаться в малоубедительные объяснения: «Вообще-то… но на самом деле…» И по своему переименованию в «одиннадцатилетнюю специальную», отчего все вдруг попрыгали через класс, а второгодники плавно перешли в следующий, школа еще долго величала себя по старинке: «десятилеткой при консерватории».
Откладываем на счетах четыре года. Я шестиклассник. Не надо вставать затемно. Клава уже с лета сидит на бочке с квасом, оскорблена отставкой, зато осчастливлена постоянной пропиской. Из большего вычитаем меньшее, получаем семь метров жилплощади. Прощай, Клава, ты меня вырастила, вынянчила — видишь, родина этого не забыла.
Приметы времени для тринадцатилетнего школьника, едущего в школу пустым двадцать вторым: уже помянутые «бабетты», в одночасье пустившие по миру дамских шляпниц; пооткрывавшиеся на Невском кафетерии; прохожие в «болоньях» и коротких пальто с косыми карманами… да загляните в «Шестидесятые» Вайля и Гениса, там все сказано. У Наймана — прекрасно: мы — ваше Рижское взморье. Одним словом, «Я люблю тебя, жизнь» — так назывался фильм о любви современного комсомольца в берете к красавице сектантке в платке. Кому что, а мне запомнился Олег Каравайчук в роли самого себя, в прошлом главный вундеркинд нашей школы. Касательно же прекрасной иеговистки, то ей как до луны было до Лары Комаровской, которая в автобусе сидит наискосок от меня. Инна Семеновна Радкевич, ее учительница по специальности, то есть больше, чем мать родная, шляпку, изготовленную последней, сменила на заграничную косынку, чтобы зачехлять начёс. С индивидуальным пошивом покончено раз и навсегда, пусть протирает себя в партийных кабинетах. Отныне главная примета времени: лучше быть пастухом там, чем генсеком здесь. Высокосознательный комсомолец и тот в берете.
С Ларой мы состоим в родстве по учительской линии. Инна Семеновна Радкевич замужем за Александром Матвеевичем Яном, который был мне больше, чем отец родной. Брачный союз этих наших больше-чем-родителей хотелось изваять как пример беспримерного и идеального: он скрипач — она пианистка, он доцент консерватории и на полставке работает в консерваторском инкубаторе — она почасовик в консерватории, а в школу вросла по пояс, как Пандора в землю. Это была счастливая бездетная пара, в абсолютном экстазе профессионального взаимопонимания производившая что-то такое, что было для них всего важней, трудившаяся в коллективе, где всегда есть на кого обижаться и кого обижать. Приятно гореть сообща! При этом пожелания успехов в труде не отделять от пожелания счастья в личной жизни. Пойти прямо с работы в кино на французский фильм «Набережная утренней зари» в первый день его показа, воспользовавшись чьей-то бронью. Или в Филармонию — на выступление великой заезжей знаменитости, для чего также не требовалось участвовать в ночной вахте энтузиастов, билеты им и так достанут. Случалось по нужде сходить в Малый зал. Да мало ли куда. (Только не в оперу, смешно даже себе их представить там.)
С ростом материально-культурных запросов общества меняется ассортимент табачных изделий. Еще недавно Александр Матвеевич гулко дунул бы в папиросную гильзу, прежде чем ее закусить, а Инна Семеновна постучала бы ею по пачке. Теперь они перешли на болгарские. Войдя к мужу в класс, она достает из сумки «Фильтр», именно его, а не «Шипку», или «Солнце», или «Джейбел» — особенно ценившийся в том кругу, к которому мне очень хотелось принадлежать, да нос не дорос («В уборной: „Джейбел“, чувак…» — тяжелым басом Виллиса Кановера). И Александр Матвеевич, и Инна Семеновна курили в классе, стряхивая пепел в кулечек из газетки. Вообще кто из школьников своих учителей называет за глаза по имени и отчеству? «Ян», «Инна»… У моего учителя фамилия звучала как имя, он был родственником того самого Яна, чья трилогия украшала множество книжных полок, в том числе и нашу. Раз я потянул за один из трех корешков, открыл и вижу: пятки к затылку, татарская казнь. Как тут не вспомнить уроки по специальности.
Когда она вошла, играла Соловейчик, девица могучего сложения, мывшаяся, может, как и все, но потевшая, увы, в три раза обильней — очевидно, благодаря многочасовым занятиям на скрипке, что как бы извиняло ее в глазах профессионалов, но глаза — это ведь не единственный орган чувств. На пульте стояла «Кармен» Сарасате с оторванной музгизовской обложкой. Ян тряс головой и кричал: «Смычок!.. Весь смычок!.. Раззудись, плечо, размахнись, рука!..» Скрипка в руках у Соловейчик мычала: заломив локоть вправо, она в этот момент играла высоко на баске: «У любви, как у пташки, крылья…». Я ждал своей очереди розог, уже стянув гимнастерку — она мешала «раззудиться плечу».