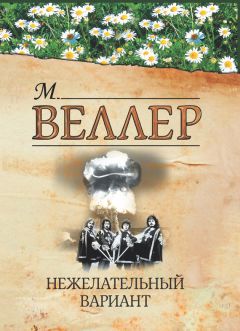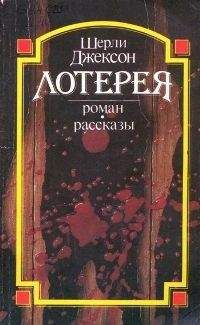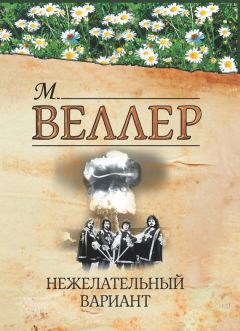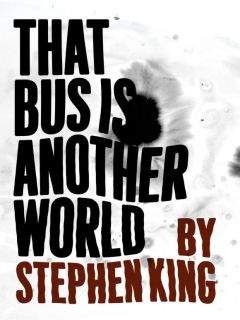Михаил Веллер - Мишахерезада
Огромной любовью старших школьников пользовался Эдуард Асадов. Он был прост, он был лиричен, он призывал к хорошему. Девушки также любили Щипачева и Доризо.
А еще в живом обороте, для души, были Багрицкий, Тихонов и — несмотря на присутствие в школьной программе — Маяковский.
Можно что угодно говорить о наличествовавших в школьной программе «Как закалялась сталь» Островского и «Повести о настоящем человеке» Полевого, а также «Молодой гвардии» Фадеева, но без этих трех коммунистических книг, накачанных патриотизмом, энергией и борьбой за светлое завтра, среднего советского человека не существовало.
Поле чтения было до чудесного эклектично!
«Овод» Войнич и «Маленький принц» Экзюпери. Блистательный О. Генри и красиво-стилистичный Паустовский. Ричард Олдингтон и Эдгар По. А также вехово абсурдный ряд: Кафка, Камю, Пруст, Сартр, Ионеску, Беккет, — высокий деграданс.
Появилась высокая когорта прозаиков о войне: Василь Быков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов.
Перевели Фолкнера, Маркеса, Стейнбека, Франсуазу Саган.
Вдруг все бросились читать и цитировать Лорку. Его убили фашисты! Мы не знали, что убили за гомосексуализм, а не за стихи.
А подписные издания! О, подписные издания! Эти подписки выделяли по лимиту на работе, их перекупали, их доставали как могли. Приложения к «Правде» и «Огоньку», «Известиям» и чему там еще. С серебром и золотом, в коленкоровых переплетах и на отличной бумаге. Тридцатитомный зеленый Бальзак, двадцатитомный лазоревый Голсуорси, четырнадцатитомный серый Мопассан, четырнадцатитомный фиолетовый Лондон, кого только не было. Классные издания, выверенные, корректные, полные.
Стендаль, Гюго, Диккенс, Теккерей, даже Гейне и Лопе де Вега — были живым чтением!.. Если брать чтение хороших книг на душу населения — тут СССР был безусловно впереди планеты всей.
И такая еще вещь. Коммерческого чтива резко не хватало. И с невысокими лобиками людишки читали «Одесские рассказы» Бабеля, Шерлока Холмса, О. Генри и даже Эдгара По, не говоря уж о Зощенке, который еще не был упомянут, — читали как развлекательную литературу, не понимая большей части ее ценности. Но — читали!
Станислав Лем и Рей Брэдбери были фигурами знаковыми у нас. Фантастика — это было серьезно. Гаррисон, Шекли, Азимов, Кларк, — имели миллионы поклонников.
Слушайте, Стругацких читала вся молодая интеллигенция страны! Упивалась, впечатлялась и находила ответы на вопросы.
А потом еще придумали: сдай двадцать кило макулатуры — и на́ талон на покупку дефицитной книги. Потом талонами торговали у пунктов приемки — четыре рубля. И — тиражи Брэдбери и Дюма могли тут достигать четырех миллионов копий за раз!
Семенов со Штирлицем, Пикуль с историей и Булгаков с Мастером — а как же. В топ-десятке.
Понимаете, «Юность» (миллионный тираж), «Новый мир» (двухсоттысячный тираж) и «Литературную газету» (некий охрененный тираж) — читали все, кто смог достать. Публикация там — как пропуск в литературный истеблишмент. Опубликованное там — предписано к чтению и обсуждению меж приличными людьми. Это нормально, это приличествует, это престижно, это штрих достоинства и продвинутости. Это культура, это уважение к себе, это причастность к кругу посвященных. Ну, а поскольку из страны не дернуться, а в стране ни вздохнуть, ни пискнуть, и энергия в человеке частично не востребована и реализации хочет, — вот по этому по всему — чтение было серьезной частью жизни. Вот.
МЫ ПЕЛИ
А я еду, а я еду за туманом,
За туманом и за запахом тайги.
Поезд длинный смешной чудак,
знак рисует, чертит вопрос:
Что же что же не так, не так,
что же не удалось?
Люди идут по свету.
Слова их порою грубы.
Пожалуйста, извините, —
с улыбкой они говорят.
Но тихую нежность песни
ласкают сухие губы,
и самые лучшие книги
они в рюкзаках хранят.
Опять тобой, дорога,
желанья сожжены.
Нет у меня ни бога,
ни черта, ни жены.
Чужим остался Запад,
Восток — не мой Восток.
А за спиною запах
пылающих мостов.
Сегодня вижу завтра
иначе, чем вчера:
победа, как расплата,
зависит от утрат.
А мы уходим рано,
запутавшись в долгах,
с улыбкой д’Артаньяна,
в ковбойских сапогах.
Ты у меня одна,
словно в ночи луна,
словно в степи сосна,
словно в году весна.
Нету другой такой
ни за какой рекой,
ни за туманами,
дальними странами.
В тех странах в октябре еще весна,
плывет цветов замысловатый запах.
А мне ни разу не пригрезился во снах
туманный Запад, неверный дальний Запад.
Никто меня не поджидает там,
моей вдове совсем другое снится.
А я иду по деревянным городам,
где мостовые скрипят, как половицы.
Если друг
оказался вдруг
и не друг, и не враг,
а так.
Над Канадой, над Канадой
солнце низкое садится.
Мне давно уснуть бы надо,
только что-то мне не спится.
Над Канадой небо синее,
меж берез дожди косые.
Хоть похоже на Россию,
только все же не Россия.
Идет на взлет по полосе мой друг Серега,
мой друг Серега, Серега Санин.
Сереге Санину легко под небесами,
другого парня в пекло не пошлют.
То взлет, то посадка,
то снег, то дожди.
Сырая палатка,
и писем не жди.
Здесь надо сделать перерыв, отложить гитару, затянуться протянутой сигаретой, здесь все молчат, и это молчание в такт, здесь горит свеча в бедной комнате общежития, или фонарь во дворе, или костер в лесу, или автомобильная покрышка в пустыне, здесь еще не решены судьбы, еще бесконечно будущее, еще огромна и могущественна страна, даже если эта мать несправедлива, здесь твоя жизнь ищет свой смысл, твоя любовь жаждет единственное обретение, здесь поколение соединяется в братстве, перед тем как врозь ринуться каждому по тропе трудов и лет, но как связка снопа, как перетяжка прутьев в ветшающей человеческой метле, за тонкой перегородкой памяти всегда здесь звучание и слова, неопределимая значимость настроения и счастливая печаль надежд и грядущих потерь: это ветер времени, воздух эпохи, этот нотный рисунок ложится на душу, как татуировка, и душа твоя томится ощущением неизбежности и непоправимости будущего, проницая грань жизни и смерти и влекомая делами и потерями ценою в жизнь. Короче, хочется выпить и добавить, хочется любви и геройства, хочется гордиться и оплакать величественную и прекрасную трагедию жизни, по возможности собственной. Звенят стаканы, летят искры, мы готовы к судьбе и согласны платить цену, потому что это и есть счастье — платить высшую цену за желанную судьбу.
Министры — шулера,
король — дурак,
шуты, шутя, играют в короля!
Мы мечтали о морях-океанах,
собирались прямиком на Гавайи,
и как спятивший трубач спозаранок,
уцелевших я друзей созываю!
Уходят, уходят, уходят друзья,
одни в никуда, а другие в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
как будто в году воскресенья одни…
Уходят, уходят, уходят, уходят мои друзья.
Ах Караганда, ты Караганда,
ты уголек даешь, да на-гора года,
кому двадцать лет, кому тридцать лет,
а что с чужим живу — так своего-то нет.
Ка-ра-ганда!..
Проходит жизнь, проходит жизнь
как ветерок по полю ржи,
проходит явь, проходит сон,
любовь проходит, проходит все.
Покрепче, парень, вяжи узлы.
Беда идет по пятам.
Сегодня ветер и волны злы,
и зол как черт капитан.
Лицо укутай в холодный дым,
водой соленой омой —
и снова станешь ты молодым,
когда придем мы домой.
Песня — это была свобода. Мы пели только то, что не показывали по телевизору, не слышали по радио, не печатали в книжках и журналах. Если прорывался Высоцкий — это была наша победа: это от нас он пришел и к ним тоже, официальным, но не от них к нам.
Корабли постоят, и ложатся на курс,
но они возвращаются сквозь непогоды.
Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
я коней своих нагайкою стегаю, погоняю!
Уходим под воду
в нейтральной воде.
Мы можем по году
плевать на погоду,
а если накроют
локаторы взвоют
о нашей беде!
Спасите наши души!
Мы бредим от удушья!
Спасите наши души, спешите к нам!
Понимаете, любое время имеет свой музыкальный фон. Свой поэтический задник. И этот нестройный мелодичный гул — сумма внутренних движений народа. Скажи мне, что вы поете, — и я скажу вам, что вы за люди. Самовыражение.