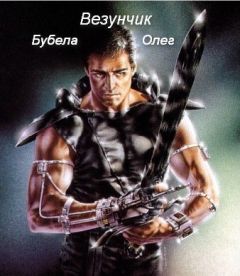Олег Рой - Капкан супружеской свободы
Лида аккуратно положила рядом с невыпитым кофе погасшую сигарету.
— Я не хочу врать тебе, Соколовский, — сказала она медленно и задумчиво. — Я не была тебе верна. Но ты сам виноват в этом. Вспомни, как ты разговаривал со мной, когда я звонила тебе на дачу, и потом еще эта дурацкая встреча в больнице… Но нас ведь связывало гораздо больше, нежели просто любовь, правда же? И поэтому я надеялась, что ты не станешь мстить своей лучшей актрисе.
Он слушал ее, не понимая, чего она от него добивается. А она, убедившись, что он не заговорит по собственному почину, не скажет то, чего ей так нужно было сейчас услышать, вздохнула и четко выговорила:
— Я по-прежнему хорошо понимаю тебя и по-прежнему способна на многое. Поэтому если ты действительно собираешься делать новый театр… Если у тебя готовятся новые проекты…
Алексей не выдержал и засмеялся. Вот оно что! Поверженный лев, оказывается, действительно лучше здоровой и бодренько тявкающей собачки. Лида, выходит, не просто упивалась своей новой властью в театре Демичева, но и готовила себе запасные пути в новом театре Соколовского… Отсмеявшись, он спросил с искренним интересом:
— Неужто ваши дела так уж плохи? А как же те предложения, о которых ты рассказывала мне по дороге в Италию? Разве они потеряли силу?
— Не будь мелочным, Соколовский! — резко отпарировала она.
— Не сердись, — улыбаясь, извинился Алексей. Он и в самом деле не хотел быть злым с нею. — Я же понимаю, что ты не случайно захотела этой встречи, и понимаю также, что любовь в самом деле здесь ни при чем. Но, честное слово, никаких новых проектов у меня пока нет. Я сказал об этом Демичеву лишь для того, чтобы не уходить из театра поверженным. — Его глаза сделались серьезными. — Можешь не верить мне, но это на самом деле так.
Они помолчали. Потом Лида поднялась и сказала так тихо, что Алексей едва смог расслышать ее:
— А знаешь, я ведь и в самом деле любила тебя…
Она изумленно покачала головой, легко подцепила мизинчиком свои темные очки и ушла.
Последующие недели были заполнены у Алексея Соколовского несложными, но крайне важными и значимыми для него делами. Он написал в Париж Пьеру Сорелю, давнему своему приятелю и коллеге, руководившему популярным во французской столице экспериментальным театром, и в тщательно продуманных выражениях попросил его навести справки о госпоже Наталье Соколовской, эмигрировавшей из Советской России в двадцать четвертом году и проживавшей когда-то по указанному им адресу. Ее адрес, сохранившийся на старом конверте, был единственной зацепкой, но Алексей хорошо знал Сореля и был уверен, что, если только существует хоть малейшая возможность разузнать что-то о судьбе бабушки, этот доброжелательный и предприимчивый француз такой возможностью непременно воспользуется. Отправив письмо электронной почтой и получив от приятеля подтверждение о том, что оно получено, Соколовский принялся спокойно ждать, уже внутренне уверенный в том, что его поездка — чем бы ни закончился поиск — состоится обязательно.
Он побывал на геологическом факультете, на кафедре, которая была родной и для Ксении, и для Татки, и долго молчал за наспех накрытым поминальным столом, в окружении тех, кто знал и любил его девочек. А потом, когда коллеги и аспиранты Ксении в буквальном смысле завалили его воспоминаниями о прошлом, он тоже принял участие в этой невеселой, но теплой игре, потому что она означала, что его родных — помнят и что они — живы. Кафедра была в восторге от того, что он привез университету в подарок отличную минералогическую коллекцию Ксении Георгиевны, и, после того как прекрасные, но холодные камни навсегда исчезли из его дома, ему показалось, что смерть его девочек стала совершенно уже нереальной.
Он часто приходил к ним на кладбище, и разговаривал с ними, и просил совета. Ему казалось, что любимые голоса отвечают, и этот ответ содержал в себе все, что хотелось услышать Алексею. Он больше ни разу не встретил на кладбище ту старую женщину, и хотя могилы по-прежнему находились в безупречном порядке, присутствие старухи и ее визиты оказались для него неуловимыми. Жалея, что не спросил ее имени, Алексей разыскал в церкви старого батюшку и, поблагодарив его за все, передал деньги для нее за будущие хлопоты, на год вперед. Священник деньги принял и был приветлив, но Соколовскому показалось, что он не совсем понял, о ком, собственно, шла речь.
Он много читал в эти дни, встречался со старыми коллегами, просматривал новые пьесы, которые приносили к нему для отзыва молодые авторы. С изумлением убедившись, что слово и мнение режиссера Алексея Соколовского по-прежнему ценятся на вес золота, будто и не случилось провалов последних постановок в театре, носящем его имя, он никому не отказывал в консультации или добром совете, но при этом никому и не сообщал о своих дальнейших планах. Москва полнилась слухами об умирающем театре на Юго-Западе и о новых проектах Соколовского, но он не поддерживал этих слухов, как и не опровергал их.
Постепенно приводя в порядок заброшенную квартиру, чиня то одну, то другую мелочь в хозяйстве, разбираясь в шкафах и мало-помалу отчищая до блеска каждый гвоздь в доме, он постоянно мысленно разговаривал с Ксюшей и Таткой и в конце концов окончательно уверился в том, что смерти — не существует. Все говорят, что они погибли?… Ну и пусть их! А для Алексея Соколовского жена и дочь живы. И пусть простят его многочисленные врачи из Клиники неврозов, потратившие на него столько времени, сил и лекарств, если им покажется теперь, что усилия их были напрасны. Пусть они считают его мысли проявлением психопатии, маниакальной навязчивой идеи или как там еще у них называются подобные состояния… Ксюша и Татка живы, и все тут! И хотел бы он посмотреть на человека, который посмеет его в этом разуверить!
Альбомы с фотографиями и старые семейные архивы он оставил напоследок. Он больше не боялся, что фотографии прежних, счастливых дней причинят ему боль или лишат сна ночью. Напротив, каждая фотография, каждое письмо Ксении из экспедиции или Наташки из пионерского лагеря, каждый оплаченный счет за телефонные переговоры с ними подтверждал: их семья существовала и была счастлива! Как ни странно, теперь он с легкостью мог вспомнить каждую мелочь и разрешить любые вопросы, когда-то вызывавшие споры или непонимание между ним и женой. Например, их любимая Таткина фотография — в тот день, когда девочку повели в первый класс, — была хороша по композиции и прекрасно пойманному, озаренному выражению маленького личика, но, к сожалению, размыта и не слишком удачна в техническом отношении. И родители никогда не могли разглядеть, сколько все-таки бантов красуется на аккуратно причесанной дочкиной головке — два или один, но очень пышный. Ксюша утверждала, что лично завязывала ей два бантика, а Алексей вечно спорил с ней, утверждая, что прекрасно помнит «бант, огромный, как пропеллер»… Ему самому было странно, как четко и однозначно он вспомнил теперь и этот праздничный день, и торопливый Таткин завтрак — какао и мамины пончики, и то, как, ворча и боясь опоздания, Ксения торжественно завязала ей два — именно два! — белых чудесных бантика. Ты была права, Ксюша, мысленно признавался Алексей и переворачивал лист альбома, вновь предаваясь воспоминаниям, озаренным его любовью, прозревшей памятью и непрощаемой виной…