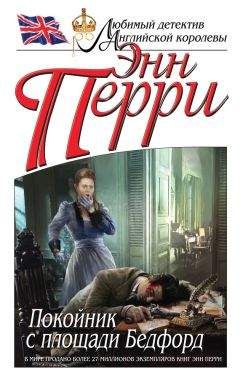Олег Лукошин - Человек-недоразумение
Из-за отвращения к комарам я никогда не соглашаюсь выступать летом на открытых площадках — все денежные курорты Черноморья в пик сезона, увы, не для меня. Я появляюсь там только осенью, зимой и весной. Должно быть, мне никогда не разбогатеть из-за этой патологии, но против собственной натуры, увы, не попрёшь.
Я выл на этом кресте, я брыкался и матерился, я тряс, насколько это было возможно, головой, чтобы отогнать полчища комаров, но те, понимая, что я спутан и доступен, умудрялись кусать меня без малейшего перерыва. Немного легче стало после того, как я начал безудержно кричать. Боль уходила в крик и придавала некоторую бесчувственность мясу. Боже, как это омерзительно, когда по тебе ползают сотни комаров! Словно поймавшие юную девственницу сладострастные и до предела уверенные в собственной безнаказанности мужики-насильники — они знают, что их жертве никуда не деться, они наслаждаются моментом, они смакуют эти бесконечные мгновения счастья, что вдруг просто так, ни с того ни с сего, подарила им не особо благосклонная до этого комариная судьба. С каждой минутой их всё больше, они сбиваются на запах и на будоражащий крик истерзанной жертвы, они входят во вкус, они начинают драться друг с другом за каждый миллиметр твоего тела, их посещает трепет и экстаз, они уродливы и звучны.
— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!! — орал я на всю грёбаную Вселенную, проклиная её и жаждая разорвать этим криком на миллиарды разноцветных фантиков. Гадкая Вселенная не реагировала. — Ведь я могуч, — взывал я к небесам, — мне подвластно всё в этом мире! Я хочу уничтожить его разом! Чтобы не было! Ну если не его, так этих комаров. Господи! — вспомнил я об отрицаемом мною боге. — Ну почему же ты оставил меня одного, почему ты покинул меня! Неужели я так противен и гадок тебе? Неужели я настолько не вписываюсь в твои схемы, что ты больше не собираешься терпеть меня?!
Это было абсолютное падение. Полное и бесповоротное проявление слабости. Я признал, пусть всего лишь на какой-то час, кого-то, кто якобы есть надо мной, — я жалкий трус, мне нет прощения.
Когда дым с пожарищ стал плотно обволакивать меня и комары разлетелись, я уже не взывал к богу. Так что не надо думать, что это он спас меня тогда. Нет, это слишком наивно. Если бы он был, ему было бы на меня глубоко насрать, — он даже в своём нафантазированном человеками образе редчайшая сволочь — но его нет, потому и помочь он никому не может. Кроме всего прочего, дым оказался спасением лишь в самые первые минуты. Спустя какое-то время я сам начал задыхаться. Видимо, с изб огонь перекинулся на деревья, и пожар неумолимо, яростно, стремительно приближался ко мне.
Не спрашивайте меня, как я освободился от верёвочных пут. Мне и самому это не вполне понятно. Впрочем, я не думаю, что произошло какое-то чудо. Скорее всего, к тому времени я своей непрекращающейся нервной тряской серьёзно ослабил узлы и сцепление гвоздей, которые удерживали крест на осине. В один прекрасный (о, небо, он был действительно прекрасен!) момент крест отделился от ствола дерева, и я рухнул вместе с ним на земную твердь. После падения я почувствовал, что могу освободить правую руку. Дальше всё пошло живее.
Я уже ощущал на лице дыхание пламени, когда полностью избавился от опутывающих тело верёвок. Свобода, чёрт меня подери, в тот момент я понял, что значит эта самая свобода! Я бежал сквозь деревья от наступающего огня, и он не был страшен мне. Я знал, что непременно убегу от него.
Несколько часов спустя мне, опухшему, дрожащему, как никогда ранее приблизившемуся к безумию, посчастливилось выбраться к крохотной речушке, где я искупался и наконец-то смыл с тела засохшую кровь и разводы гари.
Странствия святой бестолочи
Энергия покинула меня отнюдь не в этот самый день. Нет, тогда я был ещё силён и деятелен. Тогда я пылал праведной злобой, которая и есть главный источник жизни и всего создаваемого ей прогресса, тогда чакры ещё не закрылись. Она отлетела от меня недели две спустя — забитого, униженного, потерянного. Абсолютно не понимающего, что делать и как быть.
В близлежащей деревне, куда я вышел в надежде раздобыть одежду и еду, меня встретили как прокажённого. Я неоднократно бывал здесь раньше — выбираясь по делам и за покупками — и всегда въезжал сюда как Король-солнце, я был уважаем и влиятелен, а сейчас никто не узнавал в этом уродливом оборвыше прежнего холодного и расчётливого хозяина жизни. Завидев меня, женщины прятались по домам, торопливо окликая детей, мужчины напрягались и шарили глазами в поисках топоров, кос или чего-нибудь другого острого и тяжёлого.
Любая попытка заговорить заканчивалась неудачей: мои опухшие, разбитые и искусанные губы выдавали лишь нечленораздельное мычание, знаки тоже не помогали. Местные аборигены не желали со мной знаться. Те, кто помоложе, пинками и ударами палок прогонял меня со дворов. Я был слишком слаб, чтобы ответить ударом на удар.
Жаль, забыл название этой деревни. Непременно спалю её к чёртовой матери при первой же возможности.
Отсидевшись до ночи в лесу, я выбрался к избам заново, и под покровом темноты мне посчастливилось кое-что урвать. В одном из огородов сорвал с верёвки ветхое и пересушенное бельё, которое наверняка никто не торопился снимать из-за его приближавшейся к стопроцентной отметке негодности. В другом нашёл валявшиеся на развёрнутом листе газеты сухари — это была моя первая еда за почти что двое суток. Тогда я ещё не знал, что подобной пищей мне предстоит питаться ещё долгое время.
Стоял конец мая, дни радовали теплом, а вот ночи были всё ещё холодны. Ветхих брюк со штопаной-перештопаной рубашкой и накинутой на неё такой же ветхой, застиранной до полной потери цвета джинсовой курткой по таким ночам было маловато. Я быстро заболел, через пару дней вовсю чихал, кашлял и захлёбывался в собственных соплях. В деревнях и посёлках меня встречали так же неприветливо. Посылали на три буквы, прогоняли пинками под зад, кидали в спину камни. Да, я был страшен в те дни: вместо лица на мне красовалась уродливая маска, однозначно говорившая недалёким людям о моей тяжёлой и непременно заразной болезни.
Нет, находились сердобольные женщины, которые кидали мне корку хлеба или пару-тройку медных монет, я благодарен им за это, они казались мне прекрасными в своей брезгливой жалости. Пару раз мне удавалось отнять деньги у подростков — на них с неохотой мне продавали в местных магазинах кое-какие продукты. Их не хватало, чтобы утолить голод, — приходилось воровать.
Дней через десять мне удалось добраться до Барнаула. Попутки брать меня отказывались, на автобусы не было денег, а злые шофёры категорически не желали везти меня бесплатно, так что весь путь я преодолел пешком. Самое ужасное, что чувствовал я тогда, — полную неспособность оказывать на людей влияние, пусть самое маломальское. Вот так одним махом я потерял уверенность в себе, мистический талант и даже заветную Силу.
Спустя час после прибытия в Барнаул мне крупно повезло: меня ради развлечения избили пьяные подростки. Окровавленный, я валялся на скамейке, кто-то из жалостливых жителей этого города — такие ещё встречаются — вызвал «скорую». Меня отвезли в больницу, и примерно с неделю я валялся там. Это была большая удача: по крайней мере, я отоспался, почти перестал кашлять, а с лица сошла опухоль. Правда, несмотря на это, я увидел в зеркале не былого лидера и бойца, а жалкого, потерянного человечка.
Документы у меня отсутствовали, имя своё я называть отказывался — главврач решил передать меня в приют (официально он назывался как-то хитрее) для душевнобольных. Такие планы меня не устраивали, пусть даже в этом приюте есть постоянная еда и относительно мягкая постель, — за день до означенной даты переезда я из больницы свалил.
Шляться по городам мне было не впервой, а вот настроение, с которым я правдами и неправдами перебирался из одного населённого пункта в другой, ощущение окружающей действительности и собственного «я» во всём этом пребывали ниже нулевой отметки. Никогда я не боялся этого призрачного мира со всеми его гадостями (я полагаю), мне хватало щепотки злости, чтобы в любую секунду завести в себе все многочисленные роторы и турбины, которые вмиг наполняли меня желанием движения и постоянной мести. А тут вдруг они затихли. Ни малейшего колебания, даже поползновения. Я тщетно пытался возродить в себе былую злость, мою спасительницу и утешительницу, приставал к прохожим, оскорблял на улицах женщин, угрожал мужчинам. Увы, женщины почему-то не оскорблялись, лишь презрительно морщились и воротили в сторону носы, прикрывая их ладошками, мужчины не пугались моих угроз и, лишь досадливо матеря, проходили мимо либо же устало и без азарта отвешивали мне несколько нравоучительно-сдержанных тумаков, на которые я не мог ответить.