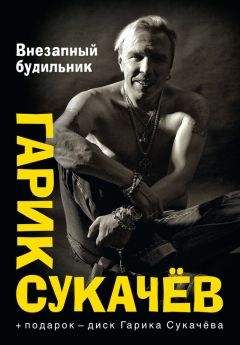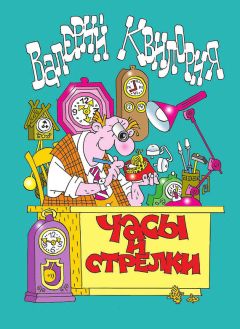Сергей Говорухин - Прозрачные леса под Люксембургом (сборник)
– Скажи, а как жена, я могу поинтересоваться, чем ты занимаешься?
– А ты, собственно, только и делаешь, что интересуешься.
– Ну, знаешь, в конце концов, я выхожу замуж впервые.
– Это аргумент. А работаю я оператором на одной жуликоватой, но крайне независимой студии.
– Да? – удивилась Наташа. – И что же вы снимаете?
– Рекламу, клипы.
– Какие?
Он назвал.
Наташа болезненно поморщилась.
– Господи, какая гадость.
Она приоткрыла портьеру, посмотрела в окно. Через давно не мытые стекла первого этажа были едва различимы лица совсем чужих людей.
– Когда человек счастлив – окружающие кажутся ему только прохожими, – отстраненно произнесла она. – А ты пробовал заняться чем-нибудь другим?
– Мне некого было стыдиться. У меня не было тебя.
Он долго смотрел на нее, наконец сказал:
– Наташа… Мы будем жить нелегко, может, бедно, но мы останемся собой. Ты согласна?
– Конечно, – ответила она просто.
Потом она звонила из автомата.
В автомате были выбиты стекла, тяжело поскрипывала дверь, и казалось, все это: и металлический каркас и пластиковый корпус телефона, – было соткано из вечернего неба и звезд специально для Левашова и Наташи и растворится тотчас, как только Наташа опустит трубку.
Растворится до следующего прохожего, которому будет необходимо сделать самый важный, решающий звонок в своей жизни. Немедленно. Из первого телефона-автомата.
– Сергей Борисович, голубчик, это Наташа. Передайте, пожалуйста, Ксении, что меня сегодня не будет. И завтра… Что? Да, уезжаю. Звоню с вокзала… Все понимаю, Сергей Борисович, но что делать – крайние обстоятельства…
Левашов стоял рядом, прислонившись к будке, слушал эту несусветную ложь.
Наташа забарабанила пальцами по его плечу и, зажимая трубку ладонью, проговорила:
– Слушай, бог меня накажет, да? – и тут же проинформировала о реакции на том конце провода. – Ругается на чем свет стоит…
– Не отвлекайся, – мудро посоветовал Левашов.
– На месяц, не меньше. Да знаете, все так как-то… Ну, кому-кому, а мне найти замену несложно. Я договорилась с одной девицей – она вам завтра будет звонить… Ну, что поделаешь – обидно, конечно… И вам всего самого доброго.
Она повесила трубку, ступила на асфальт, потянулась и сказала со смутным недопониманием, обычно сопровождающим внезапное счастье:
– Я свободна!
…Где-то далеко, над заснеженными вершинами афганских гор, вставало солнце.
Левашов, Истратов и начальник заставы Богодухов сидели под навесом полевой кухни и курили, по привычке пряча огоньки сигарет за отвороты бушлатов.
– Ночь на удивление спокойно прошла, – сплевывая на окурок, сказал Богодухов. – Через час пойду докладывать по начальству.
– Во-во, – заметил Истратов, – так и доложи: в связи с уважительным отношением афганской стороны к начальнику заставы майору Богодухову было решено его день рождения всякими идиотскими выходками не портить.
– Не они, так вы все испортили своими сборами…
– Ну, извини, – усмехнулся Истратов. – Скоро мы уйдем, и ты вздохнешь с облегчением…
– Пошел ты, знаешь, куда?
– Знаю.
– Ничего, – сказал Богодухов, – дай бог, вернетесь, там и погуляем. Баньку затопим…
– Что значит: дай бог? – мрачно спросил Истратов.
– То и значит, Паша. Не к теще на блины идете…
– Ты мне, Богодухов, – сказал Левашов, толкнув Богодухова плечом, – образцового отца-командира напоминаешь. Все у тебя сыты, обуты, а за подкладку фуражки набор поговорок зашит. На все случаи жизни…
– Какой из меня командир… Мне бы джинсы с бейсболкой и куда-нибудь на Азовское море. Спасателем…
– Почему на Азовское? – спросил Истратов.
– Оно мелкое. В нем утонуть невозможно.
Истратов поднялся.
– Пойду ребят будить – через час выходим. Ты собрался, Левашов?
– Нищему собраться – только подпоясаться, как ответил бы на моем месте майор Богодухов.
– Ну-ну.
Истратов ушел.
– У тебя рожки на тридцать? – спросил Богодухов.
– На тридцать.
Богодухов взял свой автомат, отстегнул спаренные, удлиненные рожки на сорок пять патронов и протянул Левашову.
– Возьми. Мои на сорок пять.
– Спасибо. – Левашов отстегнул свои рожки и протянул Богодухову. – Махнем не глядя, как на фронте говорят…
– Слушай, Жека, – сказал Богодухов, – мы с тобой друг друга сто лет знаем… Я тебя прошу: не будь мудаком.
– В каком смысле?
– В смысле, не лезь никуда! Без тебя навоюют…
– Там видно будет.
– Там уже ничего не будет видно…
Богодухов встал.
– У меня на этой кухне двоих поварят убило…
– Что ж вы ее в землю не закопаете?
– Кухню в землю не закопаешь…
Богодухов смотрел куда-то поверх гор, и взгляд его был таким отрешенным и смертельно уставшим, что Левашову стало не по себе. Словно не он, Левашов, а его старый товарищ Витька Богодухов уходил сегодня в заранее предопределившую его судьбу неизвестность.
И уже неотвязчиво стояли перед глазами убитые поварята.
– Куплю себе дом на берегу, – задумчиво произнес Богодухов, – побелю известкой и буду слушать море… Женюсь на фантастически красивой женщине…
– Ты же женат.
– Какое это имеет значение…
Левашов подошел к Богодухову.
– Не провожай нас – ну тебя к черту…
– Долгие проводы – лишние слезы… – сказал Богодухов. – Женька…
– Ладно… – махнул рукой Левашов.
Они обнялись. Скомкано и неловко. Богодухов ткнул Левашова в плечо, отвернулся и пошел в сторону штабного блиндажа. На мгновение Левашову показалось, что он плачет…
Поезд трясло.
Проводница – немолодая, измотанная дорогами, шла по вагону, держась за поручень и строго заглядывая в каждое окно, словно то, что было за окном, также находилось в ее ведении и подлежало контролю на всем пути следования. Она дошла до предпоследнего купе, постучала в закрытую дверь.
– Добрый вечер! Билетики ваши, пожалуйста. Так, Левашов. До Инты. А вы, стало быть, Левашова?
– Боже упаси, я – Наташа.
– Наташа так Наташа. И за бельишко, пожалуйста. Чаек будем пить?
– Непременно, – отозвался Левашов. – Скажите, а курить у вас можно?
– Исключительно в тамбуре. Тамбур-то – вот он.
Она пространно повела рукой.
Левашов тяжело вздохнул.
– Видите ли, – очень серьезно сказал он, – у меня крупозное воспаление легких, а у нее, у Наташи, откровенно говоря, вообще пневмония.
– Надо же, – посочувствовала проводница. – Что же вы: с такими тяжелыми недугами и в дорогу?
– Что поделаешь, – обреченно произнес Левашов. – Мотает человека по свету, фигурально выражаясь, как осенний листок, а умирать тянет на родные места…