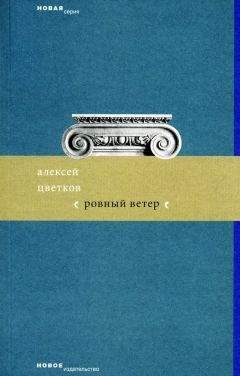Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
Перед сном Ольга быстро и много говорила и бегала от кровати – к письменному столу.
– Я теперь знаю – как! – суетливо перебирая бумаги и тут же бросая их, уверяла она Эдуарда Макаровича. – Дело вовсе не в сочетании звуков, а в тональности. Я всё не так делала. Я завтра, прямо с утра, начну. Вот увидишь! Совсем особая музыка древней речи – она сохранилась в современных говорах. Вот. Я теперь всё, всё знаю – как!
Она счастливо смеялась.
– А ты… сам не знаешь, какой ты! – торопливо и нервно говорила она. – Ты изо всех – лучше всех.
– Что ты бегаешь босиком? – беспокоился Эдуард Макарович.
Он опять подавал ей тапки, но Ольга всякий раз путалась, норовя засунуть левую ногу в правый тапок, а правую – в левый. Эдуард Макарович, наконец, так и не сумев обуть Ольгу, ставил тапки перед нею на пол, Ольга перешагивала через них и опять бежала к столу:
– Теперь здесь, здесь и здесь будет по-другому.
– Ты угомонишься сегодня? – со вздохом спросил Эдуард Макарович.
Ольга обернулась – и увидела, что вид у него усталый. Ещё она увидела то, чего раньше никогда не замечала – его руки от плеч до локтей показались ей неприятно короткими. Она даже замешкалась.
– Ты… Лучше всех… – сказала она ещё раз – для того, чтобы не видеть его рук и поскорее забыть о том.
– Наверно, – согласился он, добродушно улыбаясь. – Хотя и не так молод, как мне бы того хотелось. Но вот свой халат ты бы лучше вешала вот сюда. А не бросала бы на пол.
Ольга огляделась – кругом был безупречный порядок, если не считать тех вещей, которые она успела разбросать там и сям. Ольга смутилась – оттого, что не заметила и не оценила сразу этой строгой прибранности. И растерялась: это был уже не Ольгин, а его порядок, и Эдуарду Макаровичу была, наверно, неприятна та суматоха, которую вносила Ольга.
Она поняла это по его доброй, покорной улыбке и по тому, как он подобрал с пола её халат – чересчур покорно и чересчур добро. Тоскливое, нежданное ощущенье вдруг коснулось сердца – и словно бы толкнуло его: Ольге показалось, что стоит она – в каком-то чужом месте, и что теперь ей уже негде жить.
– Я буду любить тебя! – пугаясь, выкрикнула Ольга.
Эдуард Макарович внимательно взглянул на неё – и отстранился.
– …И когда же? – со спокойной усмешкой отозвался он.
Но Ольга не услышала этого, потому что сразу отошла к окну и стала смотреть в непроглядную, плоскую тьму стекла. Стекло отсекало жёлтую, тревожную дорогу света, бегущую от полной луны – к окну.
– Что ты там выглядываешь? – спросил Эдуард Макарович после долгого молчания. – Есть ли смысл так пристально смотреть туда, где ничего не видно?.. Луна одна… Луна. Планета мёртвых… Отраженье несуществующих миров.
Ольга не шевелилась. Он подошёл и поднял её на руки.
– Нет смысла смотреть туда, где ничего нет! – повторил он. – Так-то… Завтра будет утро, которое мудренее этого вечера. Успокойся, Оля.
Она заснула с тревожной улыбкой на осунувшемся лице, упрямо проговорив сквозь сон: «…лучше всех!»
Ей снился странный, медленный сон, в котором она, босая, опасалась идти по сине-зелёным лужам. И слева, и справа от Ольги возвышались и уходили в небо прозрачные стеклянные стены, и лишь потолка не было у этого тесного коридора.
Снаружи к стеклу приникали какие-то лица – все эти люди что-то говорили Ольге, беззвучно шевеля губами. И только не старая ещё женщина с розовой детской лейкой в руках стояла позади всех, на своём балконе, и отчуждённо молчала. Смуглые пальцы её были унизаны перстнями с бирюзой. А разглядеть лицо женщины Ольга не успевала, потому что торопилась отвести глаза.
Ольга отворачивалась к другой стене коридора. Но и за нею та же самая женщина скупо наклоняла лейку над горшками, из которых торчали жестяные неживые цветы, и щупала землю, и озабоченно хмурилась: земля казалась ей сухой.
Ольга стояла в прозрачном коридоре, одна, уже не поднимая глаз. Чтобы не увидеть женщину снова, она решилась всё же шагнуть вперёд, но сразу отдёрнула ногу: сине-зелёные лужи были пронизывающе холодными. И теперь оставался только один путь из узкого коридора без потолка – путь вверх.
– Сейчас все чудные стали. Разучились понимать, где своё, а где чужое, – сказала молчащая женщина с балкона сквозь коридорное стекло. – Свою долю любить да мыкать разучились. А ведь он где-то ходит!
– Кто? – молча спросила Ольга.
– Ходит ведь он где-то…
– Где?
И, повторяемое высоким эхом, понеслось над купоросного цвета лужами, по нескончаемому стеклянному коридору:
– Кто?.. Кто ты?.. Кто ты?.. Где?
Высокое эхо звало к себе, и летало, и тянуло насильно ввысь. Вдруг материнский голос проговорил что-то едва слышно ей, Ольге. Слов было не разобрать. Но в ту минуту – по тому, как вдруг просторен стал стеклянный коридор, – Ольга поняла, что она совсем ещё маленькая. Вокруг простиралась сплошная пустыня в сине-зелёных лужах – и ни души не было рядом с нею. Ольга заметалась, отыскивая кого-то, по кому смертельно и всегда тосковала. Она замерла в напрасном и долгом ожиданье – и расплакалась по-детски громко. И с беззвучным звоном стали рушиться стеклянные стены и таять на глазах, будто ледяные осколки, под жёлтым светом огромных и просторных небес.
– Слёзы видеть во сне – к счастью, – равнодушно сказал рядом непонятно кто.
«Кто это сказал?» – хотела спросить маленькая Оля, которая одновременно была и Ольгой большой. Но только молча спросила:
– Кто?..
Ответа не последовало. Лишь звучало над сине-зелёными лужами, над бескрайней плоской землёй, нескончаемо звучало из края в край:
– Кто? Кто ты?.. Кто ты?.. Где?..
Потом чей-то мужской голос проговорил совсем тихо:
…Иди сюда. Иди в кровать. Ляг… Я здесь. Не бойся, это я.
1982
Со всеми последующими остановками
Повесть
Раньше всех в доме просыпался Никита. Он долго тихонько лежал, разглядывая на зелёных обоях белые цветы – Никите уже хотелось обводить их пальцем, но ещё не хотелось вынимать руку из-под тяжёлых одеял; по утрам в избушке было холодно.
Мышь в кухонном углу за шкафом не успевала угомониться после ночи, и всякий раз, когда включался холодильник, затихала ненадолго – тогда казалось, что она задумалась о чём-то над своей коркой.
Около остывшей печи стоит папина чертёжная доска. Её видно с маленькой кровати. По ночам папа чертит и курит, приоткрыв печную заслонку, будто беззвучно говорит в трубу букву «у».
Никите виден краешек слепого окна, покрытого снаружи толстым бледным слоем льда. Из-за этого нельзя рассмотреть ни дощатый монотонный забор, ни обледенелые ветки, ни небо, похожее на завьюженное поле, опрокинутое над окоченевшей улицей.
В Ленинграде в их комнате тоже было одно окно. Только прозрачное и серое. И когда папа начинал подолгу смотреть в него, то потом непременно говорил:
– Работать в нашем НИИ – всё равно что тянуть кота за хвост.
Или:
– Вкалываешь на чужого дядю… А своё откладываешь. И дооткладываешься! Пока тебе не сыграют Шопена. Нет. Брошу всё к чёртовой матери.
Папа стонал, задумчиво выпятив нижнюю челюсть, ходил от стены к стене и принимался рассуждать, глядя в потолок.
– Жил в детдоме – думал: вот закончу школу, вот уеду. Туда, где на свет появился. В Сибирь. Буду электропоезда водить. На землю смотреть, которую и запомнить не успел. Которую и не видел толком… А сам – сижу. Сижу! – он хлопал себя по бокам и опять стоял.
Тогда Никита ничего не делал, чтобы не мешать ему тосковать, только смотрел снизу и сидел возле игрушек.
Папа опускался на четвереньки, заводил Никитин паровоз. Потом объявлял строгим голосом:
– Наш электропоезд отправляется со станции! Со всеми последующими остановками!
Паровоз бежал по игрушечным рельсам, всё время – по кругу. А папа снова расхаживал от стены к стене.
– …За Уралом – Сибирь! За Уралом – Сибирь! За Уралом – любовь!.. – натужно и сильно пел он.
Вета-мама морщилась. Гремела посудой сильнее обычного. И наконец говорила:
– Будь добр, возьми со стола нож и зарежь меня. Но только не пой.
И жаловалась:
– Когда ты поёшь, у меня гортань от напряженья болит.
Но однажды она ничего не сказала про нож, а посмотрела на папу как на чужого.
– А ты брось. Брось всё.
И папа опешил. И испугался.
– …Как это – «брось»? …Ты про что это, Лизавета? …А вы как же?
И тогда Вета-мама некрасиво усмехнулась:
– А не можешь поступать так, как считаешь нужным, тогда молчи. Тогда и ныть нечего… Ты не грозись. Делай. Или делай – или молчи… Слово произнесённое обязывает всё-таки к чему-то. Иначе оно обесценивается. Просто терпеть не могу носящейся по свету словесной шелухи. Дышать от неё нечем, – и поругалась немного: – Весь мир захламили, ёлки-моталки.
Папа обиделся. Он попробовал сначала молчать и молчал долго, до вечера. А через три дня они уехали. В Сибирь.
Вета-мама у Никиты совсем маленькая. И чёрная. Все говорят, что она похожа на японку.