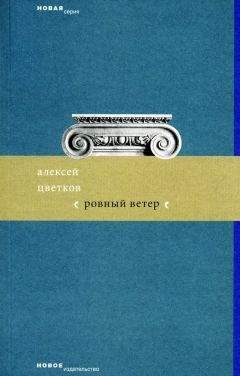Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
– Ты чего озираешься? – сразу насторожилась она.
– Вот. Свету иду бить, – вздохнул Никита. – Папа велел.
– Да вы что, мужики? Совсем угорели? – Вета-мама, расплёскивая воду, пригнулась и отняла у Никиты половинку кирпича. – Марш домой!
– …Девочек бьют только очень низкие люди, – сказала Вета-мама, ставя Никитины валенки на край печи. – Запомни: самые мерзкие и самые низкие.
Никита ещё раз подумал – и прошёлся по комнате, заложив руки за спину.
– Один раз побью! – без особой охоты решил он, поглядывая на отца. – Потом буду высокий всегда.
– Один раз в жизни ничего не случается, – толковала мама, краснела и сильно волновалась. – Если это случится один раз, случится и в другой. И в третий – тоже. Любую границу человек переступает лишь однажды. А после этого она уже перестаёт существовать.
– Не понимаю! Ты кого всё-таки растишь? – устало раздражился папа. – Альтруиста?!. Для альтруистов ещё время не приспело. И не приспеет никогда…
Никита радуется, что всё это уже прошло, и что всё это уже стало «вчера». А сегодня папа торопливо ест вчерашний суп с фасолью и кладёт в маленький чёрный чемодан бутерброды. Никите кажется, что бутерброды дразнятся: из каждых двух ломтей высовывается по розовому язычку колбасы.
Папа надевает толстый свитер и форменный пиджак. Никите нравятся металлические эмблемки с молоточками. И ему тоже сегодня хочется быть машинистом. А проводником с жёлтым флажком в руках немного меньше. Папа ходит мимо кровати, и от его пиджака пахнет железной дорогой…
Железная дорога лежит совсем близко от их дома. Когда мимо мчатся поезда, набирая скорость, избушка подрагивает едва заметно – в ней становится тряско, как в вагоне.
Соседская Света уводила Никиту летом в овраг, к самой насыпи. Она уводила его потому, что это запрещалось. И об этом никто не знал. Вдоль насыпи дул горячий ветер, срывая чёрный запах со шпал. А от домов сбегала в овраг тропа, по которой никто и никогда не ходил. Но однажды они увидели, как по ней стремительно спускается длинный-предлинный человек…
На дне оврага, в кустах задубевшей кривой полыни, Света и Никита нашли проволочный ящик из-под молочных бутылок и начали на нём сидеть. Они сидели смирно, потому что ящик шатался. И тут они увидели его. Предлинного. Стремительно спускающегося по тропе, по которой не ходят… Мужчина с грохотом швырял ногой попадавшиеся на пути консервные банки. Вдруг он остановился – и прислушался, сильно вытянув шею. Он остановился, прислушался – и бросился бежать со всех ног прямо к ним.
Никита и Света удивились, переглянулись. И тут же испугались и упали со страха в траву, колючую и жёсткую. А он пробежал мимо них, ничего не видя вокруг, в ослепительно белой рубашке и очень новом чёрном костюме. Быстро промелькнуло лицо его – серое и будто озябшее под горячим солнцем. И взгляд у него был тоже – озябший. Взгляд тянулся к железной дороге, а в самих побелевших глазах уже не было зрачков…
Торопливо помогая себе руками и совсем не боясь испачкаться, мужчина, упав на четвереньки, страшно быстро взбирался по насыпи. А потом встал, посмотрел на небо – и успокоенно лёг на рельсы. Он лёг поперёк дороги, опустив лицо вниз и обхватив голову руками.
Никита высунулся из травы и сказал:
– Он слушает, как поезд идёт.
А Света сказала:
– Ничего он не слушает!.. Он – отдыхает! – и стукнула Никиту кулаком в плечо, чтобы переспорить.
Земля под ними уже дрожала, наполняясь гулом: невидимый какой-то поезд шёл не по рельсам, а глубоко под землёй, совсем в другом мире. Но точно такой же поезд двигался и по поверхности земли. Засигналил, тяжело завскрикивал, заревел приближающийся видимый тепловоз. И долго тормозил со скрежетом и свистом, пытаясь сдержать напирающие на него коричневые разогнавшиеся вагоны.
Но мужчина как будто оглох. И не шевелился. И большие подошвы его башмаков были недвижны. Только один солнечный луч слабо трогал металлические подковки на широченных плоских каблуках.
Никита и Света привстали. Тепловоз, напряжённо шумя, надвинулся на человека – и замер. И только тут мужчина выполз из-под самых колёс неохотно и вяло.
Вдруг по узкой железной лестнице из тепловоза стал спускаться маленький чёрный проворный железнодорожник. В одной руке он крепко держал диковинный молоток на длинной тонкой ручке. Железнодорожник спрыгнул на землю. Дико взмахнув молотком и выкрикнув что-то свирепое, он помчался за мужчиной неожиданно большими скачками.
Мужчина тем временем неторопливой трусцой сбегал вниз по насыпи, но обернулся на миг – и побежал гораздо быстрее. А маленький железнодорожник нагонял и нагонял его, бегущего по дну оврага уже во всю прыть. И нагнал. И треснул молотком по спине с размаха. Мужчина упал во весь свой огромный рост, выбросив руки вперёд. И тогда железнодорожник изловчился и разъярённо пнул его казённым башмаком. А потом пробежал назад, выкрикивая без умолку матерщинные слова и вытирая пот со лба свободной от молотка рукой.
Состав постоял, тронулся, пошёл… И стало слышно вскоре, как плакал и тонко всхлипывал мужчина, сидя в пыли. И, всхлипывая, раскачивался и жаловался кому-то:
– Убивают, Господи… В гроб же загоняют!.. Да что же это делается на свете?.. Зачем они так? Ведь всё-таки – дитё… Да спасите же кто-нибудь!..
Его уже давно никто не убивал, а он всё сидел, раскачивая руками голову, плакал и никуда не торопился:
– Эх, люди, люди… Что вы творите!.. Люди…
Никите и Свете надоело лежать неслышно в траве. И тогда Света вскочила во весь рост и стала отряхивать пыль с подола.
– Вот видишь, чуть паровоз с рельсов не сошёл!.. – испуганно и зло закричала она на Никиту и замахнулась, как крошечная тётенька. – Зальют глаза-то! А потом объезжай их!..
Никите сразу не хочется быть железнодорожником. Потому что мужчина снится ему в непонятных, путаных снах. Он всё время хочет подбросить Никиту вверх, в пустоту, подбросить навсегда. «Что, страшно тебе?» – спрашивает он Никиту папиным голосом, приближаясь. «Уволят. Теперь – точно уволят», – говорит и говорит где-то поблизости мама-Вета. «Что, страшно тебе?» – надвигается то ли мужчина, то ли папа. «Нет… – отвечает ему без голоса Никита в тоске и беспомощности, – только когда к потолку подбрасывают, мне страшно». А в их комнату скатываются, будто в овраг, пустые консервные банки. Их становится всё больше вокруг, и они гремят как будильник…
В комнате уже тепло и хорошо. Вета-мама позёвывает, прикрывая рот ладонью.
– До Локтя сегодня? – спрашивает она высоким от позёвыванья голосом и тянется за халатом.
– Кто же может знать заранее? Может – до Локтя, может – до Камня… – ворчит папа.
Но папа водит составы почти всё время до Локтя, а до города Камня-на-Оби – редко. Из поездок папа возвращается среди ночи, или под утро, через сутки или даже больше. Иногда к ним в избушку приходит Посыльный.
Это всякий раз другой человек, но его всегда зовут Посыльный. Он совсем не замечает ни Никиту, ни Вету-маму.
– Садовая сорок пять дробь один Шумеев? – спрашивает с порога Посыльный, глядя в бумажку.
– Я Шумеев, – отвечает папа, будто играет с Посыльным в какую-то, только их, короткую игру. – Садовая сорок пять дробь один.
– Явка пятнадцать ноль ноль сегодня пятнадцатого января.
– Понял. Явка сегодня. В пятнадцать ноль-ноль, пятнадцатого января, – соглашается папа, расписываясь тут же в книжке, протянутой Посыльным.
Посыльный уходит, равнодушно скрипя валенками по снегу…
– Одеваемся! – Вета-мама, закусив губу и покраснев от натуги, натягивает на голову Никиты тугую горловину свитера.
Свитер надет и оглажен со всех сторон. А уши у Никиты пылают и чешутся.
– Прекрати, Лизавета, – ворчит от порога папа. – Пусть сам одевается. Немощный, что ли?.. И не смей без меня поднимать этого увальня на руки. Он тяжелее тебя.
А сам, шагнув к постели, подхватывает болтающего ногами Никиту. Никита хохочет и трётся носом о папин нос.
– Ладно, – строго говорит папа. – Присмотри тут за матерью, чтобы она есть не забывала. И чтобы никаких стирок не разводила без меня. Понял?.. А главное – не горюй. Никогда не горюй. Договорились?
Папа уходит, а Вета-мама снова принимается одевать Никиту потеплее. У избушки нарошинские завалинки и холодный подпол, потому что это – старая времянка.
Они умываются над ведром, из эмалированного ковша, поливая друг другу на руки по очереди. И тут в сенях раздаётся осторожный скрип шагов. Потом дверь раскрывается – и входит тётя Маруся, склонив закутанную платком голову к плечу. Косенькая и щуплая, тётя Маруся вносит перед собой на тарелке два пирожка.
– …Никише, – ласково говорит она, съёжившись от мороза. – Проводили отса-то?
Тётя Маруся старая, ноги у неё совсем тонкие, и чулки на них держатся плохо. Поэтому, время от времени, она высоко задирает юбку и в разговоре, между делом, начинает сноровисто подтягивать их, потом накатывать над коленками крендельками. Дома и по двору тётя Маруся ходит в чёрных валенках без голенищ, и издали кажется, будто она обута в огромные чёрные гири.