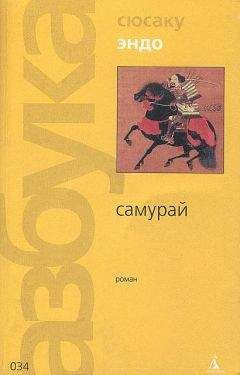Генеральская дочь - Гривнина Ирина
«Ну, как наша девочка занимается?»
Ляля молчала настороженно, и он уходил, насвистывая какой-то пошлый мотивчик.
Но постепенно, поняв, что никому об этом не известно, он становился все нахальнее. Задержав руку на талии, медленно-медленно начинал сдвигать ее вперед, вверх. Сперва тихонько, а потом все увереннее, привычным, округлым движением гладил Лялины груди. Иногда рука его как бы нечаянно сдвигалась на живот, и, не встречая сопротивления, с каждым разом опускалась все ниже, ниже, и комкала короткую ситцевую юбчонку, и забиралась под нее, касаясь обнаженного тела. Медленно шевелились толстые волосатые пальцы, сопя, он прижимался к ней, и Ляля с отвращением ощущала спиною, сквозь тонкую ткань блузки, его напрягшуюся, отвердевшую плоть.
Настороженно вслушивалась она в новые, непонятные ощущения. Пульс бился тяжело, ритмично где-то внутри, меж плотно сжатых бедер, тянущая боль рождалась внизу живота. Лялю охватывала непреодолимая слабость, не было сил, словно в дурном сне, оборвать кошмар, вскочить, закричать. Через некоторое время она с ужасом осознала, что с нетерпением ждет его прихода. Дядюшку она продолжала ненавидеть по-прежнему, но то, что он делал с нею, доставляло неожиданно-острое наслаждение. Вдобавок ей было любопытно: что новенького проделает дядюшка сегодня, а потому с каждым разом она сопротивлялась все слабее, и жирные дядюшкины пальцы проникали все глубже, и он ощущал уже ответный трепет ее неопытного тела.
Но это было лишь прелюдией, он только готовил почву к дню своей окончательной победы, когда поднимет ее, легкую, разомлевшую от ласки, положит на узкую железную кровать и стащит жалкие, застиранные до грязно-серого цвета трусики. Она будет покорна, позволит ему расстегнуть халатик и снять все остальное. И он тоже расстегнется, не стесняясь ее более, и начнет, наконец, целовать (о, как она задрожит, когда нетерпеливым младенцем он поймает губами ее сосок, чуть сожмет, потянет… когда коснется языком впадинки пупка на худеньком девичьем животе), целовать и везде, где вздумается, ласкать, ласкать, целовать, пока она не раскроется перед ним, трепеща от восторга и ожидания, и не ощутит входящее в нее огромное, чужое. Она вздрогнет, вскрикнет от разрывающей все внутри боли и почти сразу почувствует неземное наслаждение, даваемое этой новой лаской, а через несколько минут исчезнет неприятная тяжесть внизу живота и наступит легкая, сладостная опустошенность.
Ляля по-прежнему делала вид, что не замечает дядюшку, когда, раз в три дня, он входил в ее комнату ровно в полшестого. Она молчала, и он долго, молча ласкал ее, пока не чувствовал, что пора, что можно нести ее в кровать, торопливо расстегивать халатик, накинутый прямо на голое тело (через пару дней она сообразила, что ни к чему одевать то, что почти сразу же снимут), и делать уже все, что вздумается, каждый раз изобретая что-нибудь новенькое для своей капризной феи. А она, не в силах совладать с собою, стонала от восторга, дрожала и билась в его руках, послушная малейшему движению губ, языка и ловких волосатых пальцев…
«Нет-нет, довольно об этом! Он умер давно, он лежит в земле и его мерзкая тайна умерла вместе с ним. Мне было 14, и папы не было рядом. Мне кажется… нет, я точно знаю, что папе я все тогда рассказала бы. Но когда он вернулся, теткин муж сразу перестал ко мне лезть. А мне было так стыдно, так страшно об этом говорить, и я никому не сказала.
После войны он заболел, и болел тяжело, много лет. А тетя Шура завела себе молодого любовника, и жизнь у нее веселая пошла: то в театр пойдут, то — в ресторан, то к папе с мамой на дачу поедут. Мама им покровительствовала. Она вообще к тети Шуриному мужу плохо относилась, считала, что тетя Шура с ним свою молодость загубила. Да и папа его недолюбливал. А Влад, тети Шурин любовник, скоро с папой подружился, стал сам к нему на дачу ездить.
Особенно зачастил, когда у тети Шуры несчастье с сыном случилось и она вдруг резко сдала, постарела. Под выходной, бывало, и ночевать там оставался, и они с папой вечером играли в карты. Иногда, так получалось, мы с Толей приезжаем на выходные на дачу, а он уже там. Как он смотрел на меня! Глаза у него становились голодные, горячие, как насквозь меня прожигало.
Все его называли Владом, я только потом узнала его полное имя: Владлен, то есть Владимир Ленин, так что мы, можно сказать, тезками оказались.
Папа с ним о политике любил поговорить, хотя Влад, он много моложе был, с двадцать первого года. Но он здорово умел рассказывать. Ах, какой он был ладный, ловкий! Стройный, как мальчишка. Коренной ленинградец, на Кирочной жил. Я все думала: если б папу тогда не арестовали, если б меня в Крым не увезли, мы ведь друг друга встретить могли вовремя. Вся жизнь легла бы по-другому…»
«Сколько лет прошло с тех пор, а я так и не поняла, почему Костя мне не телеграфировал, что Иона на свободе и едет к нам. Мы ничего не знали, и вдруг он вернулся. Просто открыл калитку и вошел в наш маленький дворик, через 10 с половиной месяцев после того страшного дня. Он изменился очень: поседел сильно, лицо белое стало, как полотно. И глаза — глаза совсем как у мертвого. Я его ни о чем не спросила, не хотела при Ляле. Только ночью, когда все уснули, он рассказывать начал. Главное, как он спасся: абсолютно случайно. Очень долго его ночами допрашивали, он не помнил, как долго, потому что потерял счет времени. И он не мог уже стоять, он падал, терял сознание, и его обливали водой, и били, и снова поднимали. Во время одного из ночных допросов, верно, с отчаяния, ему и пришла в голову идея…»
Он открыл глаза и улыбнулся наблюдавшему за ним следователю: «Я буду давать показания. Пишите: меня завербовал Вячеслав Михайлович Молотов. Это случилось в Москве, когда я находился там в командировке. Мы встречались на квартире по адресу: Арбат, д.2, кв. 17. Задание, которое я получил, состояло в дезорганизации работы советской контрразведки. Я получил его всего за две недели до ареста, и поэтому не успел ничего сделать. Несколько раз во время моих свиданий с В. М. Молотовым я видел в квартире каких-то людей, но не знаю их имен и не запомнил лиц».
Он аккуратно расписался, вернул протокол допроса следователю и был очень быстро выведен из кабинета. На две недели его оставили в покое, и эти две недели он целиком проспал. Потом снова вызвали. Вместо его следователя в кабинете сидел незнакомый армейский генерал. На столе перед генералом лежал исписанный листок бумаги. Генерал перечитал листок и посмотрел ему в глаза.
«Так это вы и есть, тот самый, кого Молотов завербовал? Как это вам удавалось встречаться по адресу Арбат, дом 2, кв. 17? Вы что же, не знаете, что в этом доме ресторан и никаких квартир нет?
„А вы — из Москвы, товарищ генерал?“
„Да“.
„Тогда я вам правду скажу, никто меня не вербовал, ни Молотов, ни кто другой, я вообще никогда в Москве не был и никаким вредительством не занимался, так и передайте товарищу Сталину“.
„А показания разве не ваши?“
„Мои, но они `липовые`“.
„Зачем же давать `липовые` показания?“
Следователя не было в кабинете, за боковым столиком сидел незнакомый стенограф. Он вздохнул и начал говорить. Много чего нужно было объяснить этому непонятливому генералу: как били, и как не давали спать, и как он понял, что единственный шанс уцелеть — дать такие показания, чтобы переполошившимся следователям пришлось вызывать из Москвы вот этого самого генерала разбираться в деле.
Генерал дослушал до конца, не перебивая, и, кажется, тоже вздохнул.
„Я должен задать вам несколько вопросов…“»
Элемент везения, несомненно, имел место. Как раз в эти дни очередной глава контрразведки Ежов был заменен Берией, и новый начальник спешил продемонстрировать свою гуманность. Под широко разрекламированную кампанию освобождений, «восстановления попранных вредителем Ежовым и его подручными правовых норм» попали несколько тысяч счастливчиков, и Иона О. оказался в их числе.