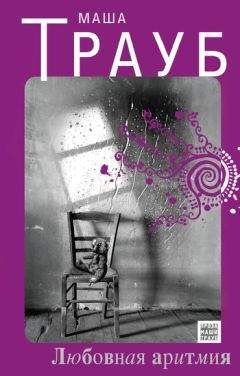Синтия Озик - Зависть, или Идиш в Америке
— Я не завистливый, — возразил Баумцвейг. — А у него есть то, чего хочешь ты. — И махнул рукой на зал — выглядел он неприметно, как птичка-невеличка.
— Вы оба этого хотите, — сказала Пола.
И тут началось то, чего хотели оба — почитание.
В. Мистер Островер, как бы вы определили символический смысл этого рассказа?
О. Символический смысл таков — что тебе нужно, то и заслужишь. Если тебе не нужно, чтобы тебя стукнули по голове, этого и не будет.
В. Сэр, на занятиях по английскому я получил задание написать работу по вашим рассказам. Не могли бы вы сказать, верите ли вы в ад?
О. С тех пор, как разбогател, нет.
В. А как же Б-г? Вы верите в Б-га?
О. Ровно так же, как я верю в воспаление легких. Если оно у вас есть, то есть. Если нет, то нет.
В. Ваша жена действительно графиня? Некоторые утверждают, что на самом деле она обычная еврейка.
О. В религии она трансвестит, и на самом деле она граф.
В. Существует ли на самом деле цврдлский язык?
О. Вы на нем сейчас говорите. Это язык дураков.
В. Что бы с вами было, если бы вас не перевели на английский?
О. Тогда меня читали бы пигмеи и эскимосы. Сейчас быть Островером — значит быть проектом мирового значения.
В. Тогда почему вы не пишете о таких вещах мирового значения, как, например, войны?
О. Потому что боюсь громких звуков.
В. Что вы думаете о будущем идиша?
О. Что вы думаете о будущем добермана-пинчера?
В. Говорят, другие идишисты вам завидуют.
О. Нет, это я им завидую. Я люблю тихую жизнь.
В. Вы держите субботу?
О. Разумеется. Вы разве не заметили, что она исчезла? Это я ее у себя держу.
В. А правила питания? Их вы придерживаетесь?
О. Я должен это делать — из-за нравов нашего мира. Я был безутешен, узнав, что устрица, попав в мой желудок, становится антисемитом. А порция креветок однажды устроила в моих кишках погром.
Шуточки, шуточки! Так продолжалось еще с час. Примета славы, «Час вопросов»: человек может до бесконечности стоять и бросаться поверхностными софизмами, и все будут им восхищаться. Эдельштейн сложил пронзительно взвизгнувший стул и проскользнул по проходу к дверям, в вестибюль. На скамейке полудремал лексикограф. Обычно он его избегал — лексикограф был человек с прошлым, а всякое прошлое нагоняет скуку, но, увидев, что Воровский приоткрыл морщинистые веки, подошел к нему.
— Что новенького, Хаим?
— Ничего. Печень замучила. А у тебя?
— Жизнь замучила. Я видел тебя в зале.
— Я ушел. Ненавижу молодежь.
— Сам-то молод не был?
— Я был другой. Никогда не смеялся. Ты только представь, я в двенадцать лет уже освоил дифференциальное исчисление. Практически заново разработал его принципы. Ты, Гершеле, Витгенштейна[35] не читал, Гейзенберга[36] не читал, что ты можешь знать об империи вселенной?
Эдельштейн решил его отвлечь.
— Это он твой перевод читал?
— Похож на мой?
— Я так решил.
— Мой и не мой. Мой, улучшенный. Если спросишь ту уродину, она скажет, что ее, улучшенный. Кто на самом деле переводчик Островера? Скажи, Гершеле, может, ты? Этого никто не знает. Как говорится, многими руками, и все они обожглись в котле у Островера. Я бы с удовольствием навалил на твоего друга Островера хорошую кучу дерьма.
— Моего друга? Он мне не друг.
— А чего же ты кровные денежки платил, чтобы на него посмотреть? Или, может, ты на него еще где можешь бесплатно посмотреть?
— То же самое могу сказать и про тебя.
— Я молодежь привел.
Разговор с безумцем: Воровский провоцировал подозревать его в нормальности — в этом и было его мешугас.[37] Эдельштейн позволил себе присесть на скамью — чувствовал, как кости уже складываются гармошкой. Навалились тоска, усталость. Сев рядом с Воровским, он оказался нос к носу с его шапкой — меховым чудищем в русском стиле. Вокруг нее витал ореол — колокольчики под дугой, снежные сугробы. Голова у Воровского была здоровенная, лицо мятое, массивное, за исключением носа, почти кукольного, розового, нежно-бесформенного. Привязанность к спиртному выдавали лишь разбухшие ноздри и кончик носа. В обычном разговоре его безумие проявлялось разве что в склонности от всего ускользать. Однако всем было известно, что Воровский, составив наконец словарь, над которым корпел семнадцать лет, вдруг начал хохотать и хохотал полгода, даже во сне: чтобы дать ему передохнуть, его кормили успокоительным, но даже оно не помогало унять смех. Умерла его жена, потом отец, а он продолжал смеяться. Он потерял контроль над мочевым пузырем, зато обнаружил, что на смех целительно воздействует спиртное. Выпивка его излечила, но он все равно прилюдно, сам того не осознавая, мочился, даже его лекарство было временным и ненадежным, потому что, когда ему случалось услышать хорошую шутку, он мог посмеяться над ней пару минут, а случалось, и три часа. Шутки Островера его явно не вдохновляли — он был трезв и вид имел несчастный. Однако Эдельштейн заметил вокруг его ширинки огромное темное пятно. Он обмочился, только непонятно, давно ли. Запаха не было, но Эдельштейн все-таки чуть отодвинулся.
— Молодежь? — спросил он.
— Племянницу. Двадцать три года, дочь моей сестры Иды. Она свободно читает на идише, — с гордостью сообщил он. — И пишет.
— На идише?
— На идише? — выплюнул он. — Гершеле, ты что, спятил, кто сейчас пишет на идише? Ей двадцать три, и что, она будет писать на идише? Она американская девушка, а не беженка какая. Она без ума от литературы, вот и все, она — как все, кто сюда пришел, для нее литература — это Островер. Я ее привел, потому что она хочет с ним познакомиться.
— Познакомь ее со мной, — вкрадчиво сказал Эдельштейн.
— Она хочет познакомиться со знаменитостью, а ты-то здесь с какого боку?
— Переводили бы меня, я был бы знаменит. Слушай, Хаим, ты такой талантливый человек, вон сколько языков знаешь, испытал бы меня. Испытал бы и подтолкнул.
— Я поэзию не перевожу. Хочешь прославиться — пиши рассказы.
— Прославиться я не хочу.
— Тогда о чем речь?
— Я хочу… — Эдельштейн осекся. Чего же он хочет? — Я хочу достичь.
Воровский не стал смеяться.
— Я учился в Берлинском университете. Из Вильно приехал в Берлин, это было в 1924-м. Достиг я Берлина? Я всю жизнь положил, чтобы собрать историю человеческого ума — то есть историю, выраженную в математике. В математике возможна только конечная, единственная поэзия. Достиг я империи вселенной? Гершеле, если бы я взялся рассказать тебе про то, как что достигается, я бы сказал одно: достичь ничего нельзя. Почему? Да потому, что как только добираешься до места, понимаешь, что это не то, чего ты хотел достичь. Знаешь, на что годится двуязычный немецко-английский математический словарь?
Эдельштейн положил руки на колени. Тускло мерцали костяшки пальцев. Белые черепа в ряд.
— На туалетную бумагу, — сказал
Воровский. — А знаешь, на что годятся стихи? На то же самое. И не называй меня циником, это — не цинизм.
— Быть может, отчаяние, — подсказал Эдельштейн.
— В задницу твое отчаяние! Я счастливый человек. И кое-что знаю про смех. — Он вскочил: рядом с сидящим Эдельштейном он казался исполином. Кулаки серые, ногти ну прямо костяные. Из зала повалила толпа. — Я тебе еще вот что скажу. Перевод — это не уравнение. Будешь искать уравнение — до смерти не сыщешь. Уравнений нет, их не бывает. Это все равно что искать двухголового зверя, понял? В последний раз я видел уравнение, когда глядел на собственную фотографию. Я заглянул в свои глаза, и что я там увидел? Увидел Б-га в обличии убийцы. Знаешь, что тебе надо сделать — попридержать язык. А вон и моя племянница — хвостиком бежит за Островером. Эй, Янкл! — прогрохотал он.
Великий человек не услышал. Плечи, руки, головы накрыли его как рыбацкая сеть. Баумцвейг с Полой выгребали из людского водоворота, вырвавшегося в вестибюль. Эдельштейн увидел двух малорослых людей, пожилых, полных, чересчур тепло одетых. Он спрятался, хотел потеряться. Пусть уходят, пусть уходят…
Но Пола его углядела.
— Что случилось? Мы думали, тебе стало плохо.
— Там было слишком жарко.
— Пойдем к нам, мы тебя спать уложим. Что тебе одному дома делать?
— Нет, спасибо. Вы только поглядите, он автографы раздает.
— Гершеле, зависть тебя подточит.
— Никому я не завидую! — завопил Эдельштейн; на него стали оборачиваться. — Где Баумцвейг?
— Жмет руку свинье. Редактор должен держать связь с авторами.
— А поэт — держать блевотину при себе.
Пола пристально на него посмотрела. Ее подбородок утонул в мехе скунса.
— С чего тебе блевать, Гершеле? У чистых душ нет желудков, одна эктоплазма. Может, Островер и прав, у тебя многовато амбиций для твоих габаритов. А если бы твой дорогой друг Баумцвейг тебя не публиковал? Ты бы имени собственного не знал. Мой муж тебе об этом не говорит, он человек добрый, а я правды не боюсь. Без него тебя бы не существовало.