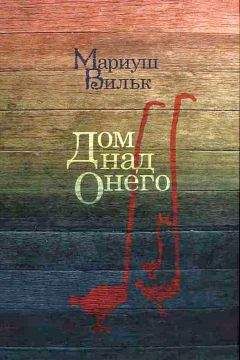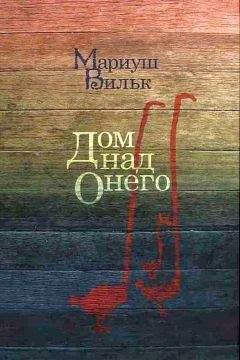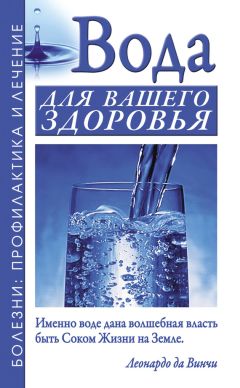Джамал Садеки - Снег, собаки и вороны
А сам Баба сидел неподвижно, отвернувшись к стене, голова его свисала на грудь, словно ему переломили шею. На ковре я заметил темные, спутанные пряди волос. Что мне делать? Как быть? Позвать матушку — не хватало духу. Как она выйдет ко мне? Разве можно снять с колен голову жены Баба, прервать то, что делала старуха? А если они узнают, что я тут стою и все вижу? Ведь недаром Хадж-ага сказал: «В комнату не входи! Вызови матушку».
«Позвать или нет?» — думал я. Жена Баба снова громко застонала. И меня вдруг обуял дикий страх. «Не дай бог… если…» — пронеслось в голове.
Я будто очнулся и позвал матушку. Она вышла ко мне ошеломленная, с удивлением посмотрела на меня и спросила сурово:
— Что случилось? Что тебе нужно? Кто тебе велел прийти сюда?
— Хадж-ага сказал…
— Сам не знает, что делает… Живо иди обратно, домой.
— Хадж-ага сказал, может…
— Что?
— Он сказал, везите ее скорее к доктору… в больницу… мало ли что может случиться.
— К доктору, в больницу? — повторила она, застыла на мгновение с открытым ртом, потом, сверкнув глазами, скрылась в комнате. Оттуда послышался голос Афат-ханум:
— Ради бога, скорее… Надо отвезти ее куда-нибудь.
Старуха закричала:
— Везите, везите куда хотите! Посреди ночи, в такую бурю! Вы что, совсем голову потеряли?!
Теперь закричала Афат-ханум, соседка:
— Что ж, нам сидеть так, сложа руки, и на бога надеяться?!
— Да, посыплем голову свою прахом… Может… — сказала матушка.
Ее тут же прервал умоляющий голос Афат-ханум:
— Давайте скорей… скорей, а то…
И опять заговорила старуха:
— Я вижу, мне тут делать нечего. Пойду… Зря я и приходила…
— Ты что это говоришь, а? Ах ты старая собака!.. — прикрикнула на нее Афат-ханум.
— Успокойся, Афат… — вмешалась матушка, становясь между ними.
Старуха отступила, Афат-ханум произнесла, заикаясь:
— У меня сил никаких нет… Что делать? Что?
Баба повернул голову и вперил в них бессмысленный взгляд.
— Что ты сидишь, уставившись на нас, как осел на кузнеца?! Подымайся, ты, мужчина… Решайся на что-нибудь! — накинулась на него Афат-ханум. — Будь ты проклят… Он и сам не понимает, что сделал… Я хотела, думала смогу… помочь… — задыхаясь и плача, говорила она.
Мать взяла ее за плечи:
— Афат, милая, успокойся… Лучше подумаем, что делать…
Афат-ханум жила в нашем предместье не так давно и не все еще знала.
Баба взвалил жену на спину. Старуха тоже заторопилась:
— Чего ж, теперь… пойду домой… Мое дело сторона…
— Иди, иди себе на здоровье, до свидания, — перебила ее матушка каким-то сдавленным, дрожащим голосом.
Старуха мгновенно исчезла.
— Ах, проклятая собака, прибери тебя господь, — пробормотала Афат.
— Ладно, пусть идет… Что нам-то делать? Мы-то зачем связались с этой дурой, прах нам на голову? — заметила матушка.
— Она знает, что натворила, вон как улепетывает…
Мы вышли из лавки. Баба нес жену, за ним шли матушка и мы. Вдруг жена Баба начала шумно дышать. Воздух вырывался из ее рта с клокотанием и шумом, как будто в мешке пересыпался песок.
Всхлипывая, запричитала Афат-ханум:
— Подлый ты, жестокий… И чем она виновата, бедная? За что так обошелся с ней? Именем Дорогой Зохры[8] заклинаю, чтоб тебе ноги переломало, чтоб тебя машиной переехало…
Матушка молчала, крепко стиснув губы, будто она решила вовсе не открывать рта.
Мы сделали всего несколько шагов, а Афат опять запричитала:
— Остановитесь на минуту… ради всех святых…
Она забежала к себе в дом и выскочила оттуда раздетая, держа в руках свое новое теплое пальто. В расстегнутой сорочке, с непокрытой головой, догоняла она нас, двигаясь невероятно быстро. Она подбежала, накинула пальто на жену Баба, сверху потуже обмотала ее шалью и опять заголосила. Я так и не понял, плачет она, угрожает или просит.
— Ханум, дорогая, милая моя, разрешите и мне с вами пойти.
Матушка не отвечала. Мы снова тронулись в путь. А позади голос Афат-ханум продолжал умолять:
— Ради бога, разрешите… разрешите…
Мы ускорили шаг. Афат-ханум все стояла у стены, шумно дыша и икая. Она недавно вышла замуж и теперь ожидала ребенка. Лицо ее, обычно веселое, смеющееся, сейчас сморщилось, исказилось от слез и горя так, что трудно было узнать ее.
Мы уже заворачивали за угол, когда в последний раз до нас донесся крик Афат:
— Азиз-ханум, дорогая, скорее… скорее несите ее!..
Я обернулся — женщина все еще стояла у стены, раздетая, с непокрытой головой.
Стало чуть светлей. Все покрывал снег. Было холодно. Лицо онемело от резкого ветра. Шли быстро. Впереди — Баба, за ним — мы с матушкой. Баба совсем согнулся под ношей, так что со стороны казалось, будто идет он на четвереньках. Он тяжело и часто дышал, а жена не шевелилась и не издавала ни звука. Мне начинало казаться, что она уже и не дышит… Крупное тело ее бесформенным тюком покоилось на спине Баба, а ноги, словно сами по себе, торчали из-под шали и слегка подрагивали при движении Баба.
Я не помню, сколько мы шли, но путь показался мне бесконечным. Улицы, переулки разматывались под нашими ногами, словно рулоны белой ткани, а мы все шли и шли…
Один раз Баба остановился. Затем вдруг сорвался с места и быстро зашагал к абамбару, Снова остановился.
Потом, не дожидаясь, пока мы подойдем, двинулся дальше по дороге.
Когда я очутился там, где только что стоял Баба, когда заглянул в темную, жуткую глубину абамбара, мне стало не по себе. Перед моими глазами возник труп Хасан-ага, плотника, утонувшего там.
Странное состояние овладело мной. Все происходящее казалось навязчивым кошмаром. В голове все перемешалось: вот стоит жена Баба за прилавком, устремив заплаканные глаза в конец улицы, а рядом с ней, у края абамбара, согнутая фигура Баба, мрачно смотрящего в его глубину…
Начинало светать, когда мы остановились. Я разглядел большую вывеску, но разобрать на ней ничего не мог: очень высоко была прибита и написано было не по-нашему.
Кто-то усатый открыл дверь. Внутри нас окружили женщины в белом. Потом я остался один в длинном коридоре. Множество дверей выходило в него, и номера на них были точно такие же, как у нас дома на стенных часах. Я присел возле белой печки. Она была горячая, но я промерз до костей и никак не мог остановить дрожь. И мне все мерещился ошеломленный Баба, согнувшийся под телом жены, все чудилось, что мы еще идем, и в ушах стоял скрип ступающих по снегу ног.
Меня разморило — и я забылся. Когда я открыл глаза, надо мной стояла матушка с покрасневшим, заплаканным лицом. Я поднялся, потом опять сел, а она все продолжала стоять. Губы ее дрожали, она всхлипывала и силилась что-то сказать. Руки тоже дрожали и не слушались ее. Глаза глядели с болью и напряжением, словно говорили со мной…
…Мы возвращались вдвоем с Баба, матушка осталась в больнице. Опять пошел снег, и мы прокладывали путь по холодному, белому безмолвию. Нас окутывала снежная пелена.
Гнев душил меня, глаза застилали слезы. Опять я вспомнил жену Баба: вот стоит она за прилавком, а черные глаза смотрят вдаль. Как похожа она была на птицу в клетке!
Да, мне не следовало давать волю своим чувствам. Просто надо было проводить Баба до дому, как просила матушка, и уйти.
— Не оставляй его ни на минуту, — сказала она, — Отведи к нам домой… к нашему Хадж-ага… Боюсь я, как бы он не сделал чего над собой… Смотри, о жене ни слова с ним, понял?
Лицо матушки заострилось, глаза горели. Дрожащая и возбужденная, она говорила и говорила, чем-то напоминая мне Афат-ханум, когда та читала в лавке Коран.
Матушка потом вдруг смолкла и разразилась проклятиями:
— А тебе, мужу, господь воздаст за злодеяние… Чтоб тебе не видеть добра… Добился своего, довел дело до конца. Бог тебя не простит!..
Она прислонилась к стене головой и продолжала:
— Бедная, несчастная женщина — вот как кончила жизнь… Такая доля — совсем молодой сошла в могилу…
Матушка прижала к лицу платок, потом отвела руки, взглянула на меня и вдруг, как неживая, сползла по стене. Я едва успел подхватить ее. Тут подошли женщины в белых халатах, стали растирать ей грудь, что-то подносить к носу…
…И вот я на улице, рядом с Баба. Вокруг нас метет снег, застилая и небо и землю…
Мы долго шли молча, и в глубине души я радовался, что так мужественно исполняю свой долг. Впервые чувствовал я настоящую ответственность, впервые сознавал, что веду себя как взрослый мужчина. И тут вдруг случилось то, что все перевернуло.
Баба остановился посреди улицы, доверчиво заглянул мне в лицо и быстро-быстро заговорил. Почему-то я стал подсудимым, который должен был отвечать на вопросы. Я нервничал, упирался, злился. Тогда он схватил меня за плечи сильными, цепкими руками, тряхнул и закричал: