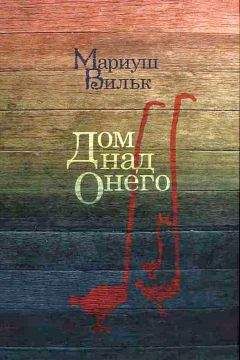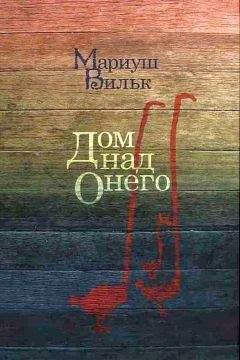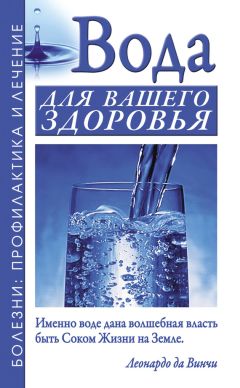Джамал Садеки - Снег, собаки и вороны
— Там поймешь… Побыстрей, не болтай… Ну!
Он помог мне одеться. У самого порога сунул в карман несколько скомканных бумажек.
— На, отдашь матушке, скажешь, отец велел, везите ее, пока не поздно, в больницу, не надейтесь на эту старуху. Мало ли что…
Он замолчал на минуту и добавил:
— Господь не простит, если раб его невинный ни за что ни про что пропадет…
В голове у меня окончательно прояснилось, сон ушел.
— Да что случилось?.. «Господь не простит». Чего не простит?
Он вытолкал меня:
— Хватит болтать, можешь — беги… Матушка только что приходила, говорит… — Он проглотил слова и дрогнувшим голосом добавил: — Гляди не простудись… холодно, снег…
Уже во дворе донеслось до меня его ворчание:
— Вот не вовремя снег, валит и валит, и за что это небо на нас посылает… Ты, смотри там, поосторожней возле абамбара[6]…
Наш бассейн посреди двора, обложенный досками и навозом, весь побелел и возвышался, словно корси в комнате.
Хадж-ага проводил меня до самой улицы. Я знал, что он любит Баба, как родного брата. Чувствовал, что сейчас он сам не свой только из-за него. Бывало, по вечерам, проходя мимо лавки Баба, отец кричал: «Кебла[7], агайе Кебла, вы не спите?» Баба приветливо отвечал, выходил навстречу и приглашал его в лавку поболтать.
В нашем предместье любили и уважали Баба. Он давно уже обосновался здесь с торговлей. И жители все покупали в его лавке.
Когда случалась свадьба, Баба приходил и один управлялся со всей работой: колол дрова, расставлял во дворе стулья, готовил шербет, кипятил самовар и разливал чай.
Его уважали, ему доверяли и в каждом доме встречали с радостью. Если люди отправлялись в паломничество, хозяйство и дом оставляли на него. И Баба следил за всем, ходил в дом ночевать. Городские щеголи боялись ногой ступить в наше предместье. Я помню, как один из них, самый нахальный и отчаянный, попался в руки Баба. Баба сорвал с него крахмальный воротничок, а беднягу взвалил мальчишкам на спины, и те пронесли его так по всей улице.
Детвора любила Баба за сказки, за то, что он частенько давал мелочь в долг. Ребята постоянно жевали его сласти, изюм, орехи, сушеные абрикосы. Посасывая чернослив, они слушали сказки, которые тот рассказывал с большим умением, певуче и негромко.
Тесно сгрудившись, слушали дети о козленке, о тетушке-жужелице, о тыкве, которая катилась… катилась, и о дочери царя фей.
Баба было сорок лет, когда он женился. До этого он жил себе одиноко и тихо. «Безумец я, что ли, брать лишнего едока?.. Сейчас я сам себе хозяин: где лег, там и встал. Сыт ли, голоден — сердце не рвется, что дети голодают, что жена раздета. Заболею, не придется горевать, кто позаботится о куске хлеба для жены и детей, чтоб не пошли побираться… Да и кто за меня пойдет теперь?» — рассуждал он.
Баба, конечно, сильно отличался от обычного лавочника. Не было у него ни хитрости этой, ни расчетливости, ни жуликоватости. Поговаривали, будто был он из достойной семьи. Будто отец его имел землю и состояние, был старостой, а потом разорился и умер. Его единственный сын бродяжничал, пока не добрался наконец до нашего города и не осел в нем.
Все в нашем предместье сразу же полюбили Баба. В нем видели честного, чистого и искреннего человека, потому и помогли ему обосноваться и открыть лавку. Общими усилиями собрали ему денег в долг, под залог, и Баба открыл собственное дело.
А через некоторое время — не помню уж, кому пришла в голову эта мысль, — решили женить Баба на дочери прачки Шарафат. Кое-кто, правда, знал о связи дочки Шарафат с тем беспутным парнем, которого у нас называли «молодчиком». Шарафат не очень пеклась о доброй репутации дочери и везде, куда ходила стирать, охотно рассказывала про свои семейные горести. Люди понимали, что «молодчик» никогда не женится на ее дочери: слишком много дружков и приятелей кружилось вокруг него и его денег. Вскоре он проиграл в карты все, что осталось после отца, и с горя пошел в солдаты. А тут как раз закрылась ткацкая фабрика, и девушка осталась без работы. Вот тогда собрались соседи и сговорили дочку Шарафат за нашего Баба: чтобы и девушку избавить от придурковатой матери, и у Баба порядок был в доме.
Свадебное торжество устроили у Хадж Ахмада. Он был названым отцом Баба и угостил всех хорошим ужином. Там же, в доме Хадж Ахмада, устроили брачное ложе и для молодых. Невесту проводили в спальню с пением и танцами, под милую, трогательную песенку:
Журчанье воды слышится,
Запах плова разносится,
Краса-невеста приближается…
На другой день одарили молодых кто чем мог.
А дальше жизнь пошла своим чередом. Правда, между жителями шли разговоры, что невеста, мол, не очень-то любит жениха. Но первое время ни раздоров, ни размолвок между ними не было. До тех пор, пока не вернулся со службы «молодчик» и жена Баба не начала гулять напропалую. «Курочка Баба завела петушка», — стали поговаривать люди. Но не все верили этим слухам, потому что жена Баба была женщина разумная, самостоятельная, не в пример своей матери, и за короткое время навела порядок в доме Баба.
Она была послушной женой, сумела найти путь к сердцу мужа. Баба привязался к ней и доверял ей во всем. Наверное, и до его ушей доходили пересуды, но он и слушать ничего не хотел. Люди всегда о ком-нибудь судачат, а думать плохо о своей жене, спокойной и ласковой хозяйке, Баба не мог. Так он и оставался в неведении, и никто не отваживался открыть ему глаза, а может, и не хотели люди. Знали, что он был человеком вспыльчивым, что сильно привязался к жене, и не хотели, чтобы пролилась кровь. Тот, кто знал правду, сидел себе да помалкивал, а те, кто не знал, по-прежнему одобряли мягкий нрав жены Баба.
Жена Баба и впрямь была приветливой и обходительной, она всегда шутила с покупателями, и ее веселый голос так и звенел в лавке. Лишь иногда, когда она выходила и становилась к прилавку рядом с Баба, я замечал, что глаза у нее заплаканы. И хотя она улыбалась вам, глаза смотрели куда-то мимо вас, в конец улицы, словно она ждала кого-то.
Когда Баба уезжал в столицу за товаром и продовольствием, лавка сразу же закрывалась и жена исчезала. Она говорила, что уезжает повидать своих подруг с фабрики. Баба об этом не знал. Ему и в голову не приходило спросить, почему в его отсутствие лавка не дает прибыли. Ни тени сомнения не закрадывалось в его простое сердце.
Но однажды… однажды случилось то, в чем он раскаивался всю жизнь…
…На пустынных улицах мел снег, меня занесло, как белого медведя, пока я добежал до лавки Баба. По дороге я остановился только раз, возле вакуфного абамбара. С ужасом заглянул я в его темное, глубокое жерло. Летом мы ходили сюда за холодной, как лед, водой. Вниз, к отверстию, вела узкая крутая лестница, ступенек сорок-пятьдесят. От грязи на ней всегда было скользко, а зимой, при дожде и снеге, ходить по ней было просто опасно. Стоило чуть оступиться — и конец. Прошлым летом из абамбара вытащили тело Хасан-ага, плотника. Незадолго перед тем он куда-то исчез. Так и не узнали люди, случайно свалился он туда или столкнул кто…
Дверь в лавку была приотворена. Я заглянул. Из задней комнатки, где жили Баба с женой, просачивался слабый свет, слышно было, как стонет женщина. Я вошел. Вот опять стоны, уже послабее, будто ветер доносит: «А-а-а-ах… а-а-ах…»
Я сделал несколько шагов, как вдруг раздался страшный вопль. Я вздрогнул и остановился. Потом я услышал умоляющий голос соседки, Афат-ханум:
— Колсум-ханум… Осторожней, не погубите ее…
Колсум-ханум — это старуха, которая обычно принимала роды в нашем предместье.
И опять послышался голос соседки, теперь уже злой, ожесточенный:
— Ах негодяй, бессовестный! За что ты изувечил ее? Чем она виновата?.. За что?..
— Успокойся, Афат, — вступилась матушка.
Я прошел через лавку и стал у двери в комнату. Отсюда, из темноты, мне было хорошо видно все, что творилось внутри.
В комнате горела керосиновая лампа, освещая желтым светом царивший там беспорядок. Все перевернуто вверх дном. Корси валяется в стороне, жаровня у самых ног жены Баба, которая не то сидела, не то лежала. Голова ее покоилась на коленях у матушки, лица было не разглядеть, только стоны слышались, так что вначале мне даже показалось, что это плачет, склонившись, моя матушка. Жена Баба снизу до пояса была обнажена, тело ее приподнято, и в воздухе судорожно вздрагивали и скрещивались ноги. Матушка, наклонясь к ее уху, читала молитву и с тревогой наблюдала за действиями Колсум-ханум.
Старуха сидела на коленях у ног женщины, низко наклонив голову и равномерно двигая руками.
Афат-ханум, соседка, стоя у стены, торопливо читала Коран. Пробегая главу за главой, она временами отрывалась от книги и с тревогой всматривалась в лицо жены Баба.