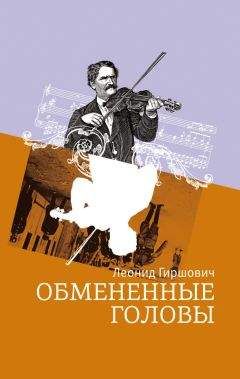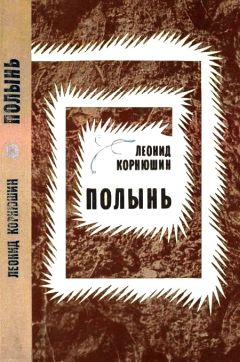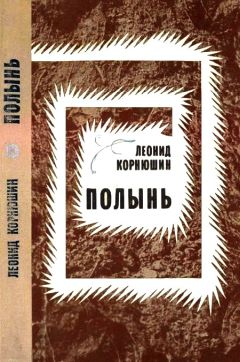Леонид Гиршович - Шаутбенахт
Знаете, корнет корнетом, а я вдруг совершенно позабыл о нем, и сердце у меня забилось, как будто это был мой рассказ. Как знать…
Для большей вероятности успеха затеваемого дела я суеверно переоделся во все папино, даже белье надел его. На улице была прелесть. Недавно взошедшее солнце подернуто морозной пленкой. Желтовато-сизые небеса, мутные, как листовое стекло в колчане у стекольщика, оседают на землю тем особенным маревом, какое возможно лишь при минус двадцати пяти. Прохожие быстро перебегают из одного продовольственного подвальчика в другой, точно такой же. Кафтаны их черны. Дворничиха подбирает и кладет в свое железное лукошко замерзшую ворону с перебитым крылом. Милиционер — под носом бесчувственная сопля. Еврей-снабженец в бедном пиджачишке поверх фуфайки и в бобровой шапке — Палосич — выглянул и спрятался. А через минуту со двора выкатил крытый брезентом грузовик. В марте какое-то черноокое племя начнет продавать мимозу. Вдоль поребрика медленно катится картофелина. И я — проплываю среди всего этого в такси с рукописью на коленях. Прелесть что за утро.
Журнал «Большевичка» расположился в старинном доме на членистоногом московском бульваре. Это был старый антилитературный журнал, несколько раз менявший свое название — в последний раз в сорок восьмом году, когда состругали всю редакцию. В отдельные периоды его существования антихудожественные публикации подменялись публикациями ахудожественными, и тогда считалось, что журнал вступил в полосу расцвета. В настоящий момент он как раз находился на переходной стадии между этими двумя своими состояниями.
В кабинет главного редактора можно было проникнуть двумя путями: через приемную, украшенную надписью «Секретарь главного редактора ГР.ПОМЕНЯЙТЕ» — поменяйте ударение с «я» на первое «е», и все будет в порядке — и через другую, соседнюю с ней комнату с табличкой «Ответственный секретарь редакции ГР.ГОРЕЛОВ». Принимая во внимание всю ответственность предстоящего шага, я предпочел воспользоваться второй дверью. Тщедушный человечек в синих нарукавниках, выслушав меня, молча поднялся из-за стола и просунул голову в низкую дверь в глубокой нише. Затем с той же невозмутимостью вернулся на свое место, но дверь оставил открытой. Я вошел.
Ах, какой это был бедный сиротка! Ах, какие слезные вздохи обрушились на меня, едва только я переступил порог кабинета Екатерины Петровны.
— Сейчас, одну минуточку, словечко секретарше… Гражина, я занята! — и к другой двери: — Горелыч, меня нет! Так что, так что, мой дорогой бедный друг! Садитесь же! — Она схватила меня за руку, подвела к кожаному дивану, уселась сама и усадила меня. Это была типичная, хоть и прибарахлившаяся, партийная дама, сентиментальная и в молодости, надо полагать, крепко сбитая.
— Екатерина Петровна, — начал я, — всю эту ночь я не спал. — Кивает. — И к утру у меня созрел замысел рассказа, — кивать перестала, — который был мною тут же перенесен на бумагу… Я работал как одержимый, вот…
Моя легонько постучал пальцем по рукописи, которую моя на манер старинной грамоты свернул в трубку. Немая сцена. По завершении ее Екатерина Петровна выдавливает:
— Да… что вы говорите. — Но отступать ей совершенно невозможно. Моя уже протягивал рукопись — так бывает, когда опрометчиво даешь на курорте свой адрес какому-нибудь колхидцу, а тот, глядишь, приезжает: «Моя хотэл Москва видэд, принимай госд».
Взяла Екатерина Петровна рукопись, пересела за стол, поправила очки и стала читать. На второй минуте она спросила:
— Вы когда-нибудь раньше печатались? — Вопрос традиционно лестный для автора, который, впрочем, слишком наивен, чтобы понять его истинное назначение.
— Нет… то есть один раз, миниатюру, в университетской газете…
Екатерина Петровна продолжает читать. Иногда по ходу чтения она восклицает: «Это мы оставим» — или: «Ну, уж это, положим…»
Что значит «оставим»? — испугался я. Да я не позволю изменить ни одного словечка! Я уже раз смалодушничал, дал искромсать свой рассказ. Хватит. Никаких изменений в тексте. Так и скажу: или — или.
Между тем она кончила читать и молчала. Не знаю, о чем уж она там думала, но только, когда она извлекла из рукава огромный, величиной с косынку, платок и сморкнулась в него — Василиса Премудрая, — я испытал к ней даже нечто вроде признательности.
— Ну вот, старая дура, вспомнила я вашего папу… вы с ним так похожи. — Она зацепилась за зубы губами, словно продела резинку — так туго, что белый хрящик выступил на носу. — Ну хорошо, — сказала она, как бы пробуждаясь от недостойного ее звания сна. — Я прочитала ваш рассказ, что я вам могу сказать… — Я гордо взметнул голову. — Он мог бы получиться неплохо. Да. Можно смело сказать, что вы продолжаете купринскую традицию в русской прозе. Традицию оч-чень честную, оч-чень хорошую. Временами ваш язык становится на редкость образным, на редкость сильным. Много находок. Например, где вы пишете про лошадь, как там у вас… на морозе лошадь туго хлопала селезенкой… «Туго хлопала селезенкой» — это великолепно. Так и хочется, чтобы ее вел под уздцы красноармеец… Ну ладно, от вас никто не требует писать о красноармейцах, о красноармейцах, какими я их помню и знаю. Но скажите, что побудило вас, молодого человека, внука революции, без всякой видимой причины — и невидимой тоже! — красный дух ее распалялся, — поместить своих героев, то есть своего героя в абсолютно чуждую и ему и вам социальную среду? Вы посмотрите, что вы делаете — берете и переносите действие рассказа в бог знает какие времена, даете ему поповское название и в таком виде предлагаете в советское издательство. Вы что, не чувствуете во всем этом фальши… какой-то… — Она запнулась.
Воспользовавшись этим, я подошел к столу и положил руку на рукопись. Сердце в груди отчаянно билось. Терять было нечего все равно, воспоминание об ангеле, посетившем меня ночью, истерлось из памяти не вполне. И я сказал:
— Екатерина Петровна, по всей видимости, произошла ошибка. Я шел не в издательство, советское или несоветское, как будто существуют еще какие-то издательства. Я шел к вам — женщине, которая, мне казалось, способна понять мое состояние. Участие, проявленное вами вчера, ваша чуткость, понимание того, что больше всего нужно человеку в такую минуту (шмыгнул носом)… Такое не забывается. Поэтому когда ночью, как при вспышке молнии, я увидел этот рассказ, весь целиком, то сразу подумал: она — поймет. Ослепший от горя отец — это как если б я взглянул на себя в зеркало, где все наоборот… А повсюду папины вещи, его блокнот… Это было какое-то наваждение. Мне ничего не пришлось сочинять. И мысль: успеть записать и скорее к ней. Она — поймет. Что ж, вы преподали мне хороший урок. Гипсовый горнист и тот вправе рассчитывать на большее. Только я не верю вам… такой. Я видел слезы на ваших глазах, когда вы это читали. И вдруг все исчезло. Вы решили, что перед вами идеологический диверсант, который — о ужас! — человеческое горе выносит за рамки производственных, социальных и прочих отношений. Конечно, я должен был назначить Слепцова директором завода, чей сын погиб при пуске в строй новых мощностей, детская смертность — это нетипично. А хоронить его директор приехал в родную деревню. Слуга превращается в личного шофера, сочельник — в Первое мая… О! Для меня самомалейшее изменение в этом тексте явилось бы предательством чувств, предательством отца и всего, пережитого этой ночью. Есть же в жизни хоть что-то, что построено на чувстве, куда вносить расчет низко, подло.
Я взял со стола листы движением человека, собравшегося уходить.
— Постойте же! — воскликнула Екатерина Петровна, ловя мою руку через весь стол. — Вы взволнованы, вы должны успокоиться. Возможно, я была не права в чем-то, возможно, не так с вами говорила. Давайте еще раз все спокойно обдумаем, давайте ваш рассказ. — Она взяла верхнюю страницу, последнюю в тексте, и стала ее перечитывать. — Ну вот, у вас тут и Бог, да еще с большой буквы. Честное слово, где это вас так учили… — Но за этим ворчаньем чувствовалось — и я вдруг понял это, к своей безмерной радости, — что я победил. Она еще о чем-то заикнулась — речь, видите ли, хромает: «расправилки» («Так в детском саду могут говорить, писатель должен знать предмет, о котором пишет, вас же юннаты на смех поднимут…»), и тут как хлопнет по столу двумя ладонями сразу: — Ну, хорошо, посмотрим на это с другой стороны. Общая идея: смерть отступает, жизнь оказывается сильнее. При этом никакой поповщины. Жизнь как категория чисто биологическая. Мыза? Помещик? Это можно трактовать как попытку в первую очередь выявить общенациональное в характере героя… Обратно же: желание заставить героя действовать в классической для русской литературы среде. Чехов, Куприн. Воскресают перед взором полотна передвижников. Хорошо, ладно, мы это берем. В конце концов… Кстати, — спросила она, уже держа в пальцах нижний первый лист, — вы хотите, чтобы ваша фамилия была изменена, как у вас здесь, в рукописи?