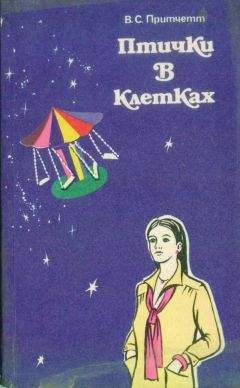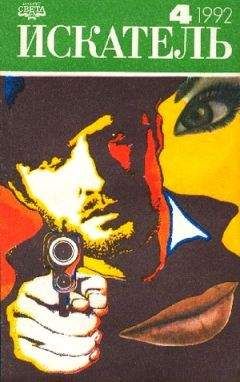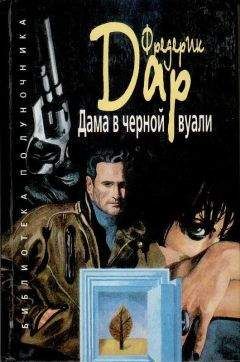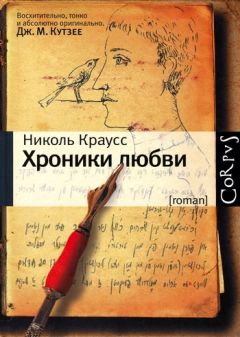Николь Краусс - Большой дом
Возможно, какие-то детали я не уловила, потому что, пока она говорила, я пыталась примириться с неизбежным: вот сейчас я отдам этой перелетной птичке единственный значимый для меня как для писателя предмет, единственное звено, соединяющее окружающий меня мир с иной реальностью, невесомой и неосязаемой. Ну что она станет с ним делать? Разве посидит за ним время от времени — как у алтаря или у отцовской могилы. И все же, ваша честь, что я могла поделать? Она уже заказала грузчиков на следующий день: стол отвезут прямиком в Ньюарк, оттуда контейнер пойдет в Израиль морем. Смотреть, как увозят стол, я была не готова, поэтому предупредила, что меня она дома не застанет, но я договорюсь с Владом, нашим ворчливым консьержем-румыном, и он ее впустит.
Рано утром я оставила конверт с открытками Даниэля на пустом столе и отправилась в Норфолк, в штат Коннектикут, где С. и я лет девять или десять подряд снимали дачу. С тех пор как мы разошлись, я туда больше не ездила. И недаром. Припарковавшись рядом с библиотекой и выйдя из машины — размять ноги и подышать воздухом, — я поняла, что ни в коем случае нельзя поддаваться настроению, которое меня туда привело, нельзя даже додумывать, почему я, собственно, туда приехала, и уж тем более нельзя встречаться на улице ни с кем из знакомых. Я тут же села обратно в машину и четыре или пять часов плутала по проселочным дорогам, через Нью-Мальборо в Грейт-Баррингтон и дальше, в Линокс, по нашим старым маршрутам. Мы объездили тут все вдоль и поперек, прежде чем огляделись и заметили, что брак наш уже невозможно подпитать ничем, он иссяк. Умер.
Пока ехала, я вдруг вспомнила, как лет через пять, после того как мы поженились, нас пригласили на ужин в дом знаменитого артиста балета, немца, который в те времена жил в Нью-Йорке. Мой муж тогда работал в театре, где этот артист давал сольные представления. Квартирка его, совсем небольшая, оказалась заполнена необычными вещицами: одни он нашел на улице, другие купил, пока мотался по миру, какие-то ему подарили — и все они, расставленные и разложенные в удивительной гармонии с пространством, выглядели уместно, изящно, то есть несли в себе все те качества, благодаря которым нам было так приятно наблюдать за этим человеком на сцене. В то же время я с какой-то неловкостью, даже грустью наблюдала, как он ходит по дому в обычной одежде и коричневых шлепанцах, и ничто не выдает в этом теле того огромного физического таланта, которым мы так восхищались. Мне ужасно захотелось подстеречь в этой будничности какой-то всплеск, какое-то па — прыжок или вращение — которое выдаст его истинную мощь. Тем не менее, как только я привыкла к облику хозяина в домашней одежде и увлеклась его бесконечными маленькими коллекциями, меня охватило ликование, особое ощущение «чужой жизни»: я всегда ликую, проникая в чье-то существование, примеряя его к себе, на миг я готова изменить всем своим привычкам и зажить вот так — как живут другие. Наутро я, конечно, просыпаюсь в знакомой и незыблемой обстановке собственного дома, и от моей готовности не остается и следа. В какой-то момент я вышла из-за стола и направилась в ванную. По пути оказалась открытая нараспашку дверь в спальню, совсем пустую и аскетичную: кровать и деревянный стул, да в углу на стене иконы со свечками. Широкое окно выходило на юг, и там, в темноте, чернели силуэты Нижнего Манхэттена. На голых стенах висел только один листок, прикрепленный булавочками, — яркая картинка, из тех, где среди вроде бы беспорядочных разноцветных мазков, как среди трясины, вдруг проступают лица, иногда даже фигуры в шляпах. Лица на верхней половине листка были опрокинуты, словно художник в какой-то момент перевернул картинку или сам переполз на другую сторону, чтобы дорисовать остальное. Эта работа разительно отличалась от других вещей, которые собирал хозяин дома. Я рассматривала ее долго, несколько минут, и лишь потом прошла дальше.
Час был поздний, огонь в камине в гостиной догорел, и гости засобирались. Танцовщик вышел с нами в прихожую и, к собственному удивлению, я спросила, кто автор картины, висящей в спальне. Хозяин ответил, что картину нарисовал его лучший друг, когда тому было девять лет. Друг и его старшая сестра, добавил он, в основном, наверно, сестра. Я получил картину на память, сказал он, подавая мне пальто. А потом, словно спохватившись, произнес: знаете, у этой картины очень печальная история.
Однажды за ужином мать насыпала детям в чай снотворное. Мальчику было девять лет, его сестре одиннадцать. Потом она перенесла их, спящих, в машину и заехала в глухой лес. Уже стемнело. Мать облила машину бензином, села внутрь и чиркнула спичкой. Все трое сгорели. Так неожиданно, так странно. Я-то всегда завидовал всему, что видел в доме у друга. В тот год елка у них стояла до апреля. Стояла уже не зеленая, а бурая, иголки высохли и опали, но я завидовал и донимал свою мать вопросами: почему мы разбираем елку так рано, почему нельзя, чтобы она стояла как у Йорна.
Артист рассказал эту историю коротко и жестко. Воцарилась тишина, и он вдруг улыбнулся. Внезапно мне стало жарко — наверно, потому что я стояла в пальто, а в квартире долго горел камин, — жарко, душно, закружилась голова. Мне хотелось еще расспросить его об этих детях, о дружбе с ними, но я боялась, что вот-вот упаду в обморок. Кто-то из гостей нарушил молчание — пошутил по поводу мрачного окончания такого чудесного вечера, потом мы поблагодарили хозяина и попрощались. В лифте я покачнулась и с трудом устояла на ногах, но С. уже напевал себе под нос и, похоже, ничего не заметил.
Мы тогда как раз подумывали, не завести ли ребенка. То есть поначалу мы были уверены: ребенок у нас непременно будет. Но всегда оказывалось, что необходимо что-то доделать, чего-то добиться в наших собственных жизнях, вместе и по отдельности, и время шло, а вопрос о ребенке так и завис — с годами не становилось яснее, способны ли мы стать еще и родителями, взять на себя новые обязательства, слишком много усилий тратилось на то, чтобы состояться. И хотя в молодости я считала, что хочу иметь ребенка, я благополучно дожила до тридцати пяти, а затем и до сорока, так и не родив. Возможно, так сложилось просто от неуверенности в себе, ваша честь, но полагаю, тут сыграло роль и мое извечное желание, даже потребность, иметь больше времени для себя. Я улучала для себя год за годом, лицо мое в зеркале становилось иным, мое тело тоже переменилось, но я не верила, что возможность иметь ребенка упущена, ведь я не давала на это согласия!
В такси по дороге домой я все думала о той матери и ее детях. Представляла, как мягко катят по сосновым иглам колеса машины, как она выезжает на поляну и глушит мотор, как белеют лица юных художников, спящих на заднем сиденье, как чернеет грязь у них под ногтями. Как же она могла? Я произнесла вопрос вслух, хотя на самом деле хотела спросить совсем не это и не так, но точнее сформулировать не сумела. Она сошла с ума, коротко отозвался мой муж, словно — сошла с ума и дело с концом. Это все объясняет.
Вскоре я написала рассказ об этом мальчике, друге детства нашего артиста, о том, как он погиб в машине своей матери в немецком лесу. Я не изменила ни одной детали, только добавила то, что мне подсказало воображение. Дом, где они жили, бьющий в ноздри запах свежести весенних вечеров, который просачивается через окна в комнату, деревья, высаженные детьми в саду, — все это пришло легко, без усилий. Как дети пели песни, которым их научила мама, как она читала им вслух Библию, как они держали на подоконнике коллекцию птичьих яиц, как мальчик забирался к сестре под бок, если ночью начиналась гроза. Мой рассказ приняли в солидный журнал. Танцовщику я не позвонила — ни перед публикацией, ни после, и не послала ему экземпляр, когда вышел номер. Он пережил этот эпизод своей жизни, а я этим эпизодом воспользовалась, приукрасив его так, как сочла целесообразным. Нет, даже не приукрасила. Я его просто подсветила. Собственно, в этом и заключается моя работа, ваша честь. Получив авторский экземпляр, я на мгновение задумалась: попадется ли он на глаза танцовщику и как он отнесется к рассказу? Но сомнения мои длились недолго, гораздо приятнее было греться в лучах славы, испытывать гордость, оттого что мое произведение напечатано в прославленном журнале, сверстано в его знаменитом формате, узнаваемым шрифтом. Впоследствии я не видела нашего знакомого артиста довольно долго и никак не готовилась к встрече — не прикидывала, что скажу и как себя поведу. Кстати, после публикации рассказа я перестала думать и о сгоревших в автомобиле детях и их матери. Не вспоминала, как отрезало.
Я продолжала писать за столом Даниэля Варски. Роман, потом еще один — о моем отце, который умер годом раньше. Будь он жив, я бы, скорее всего, ничего подобного не написала. Если бы он прочитал, что там написано, наверняка бы счел, что я его предала. К концу жизни он потерял контроль над своим телом, и от этого страдало, в первую очередь, его чувство собственного достоинства, причем — и это самое мучительное — он до последних дней отдавал себе в этом отчет. На страницах романа я представила хронику отцовского унижения в ярких деталях, вплоть до эпизода, когда он не успел дойти до туалета и испражнился в штаны, а мне пришлось его отмывать — сам он считал эту историю настолько позорной, что много дней не мог смотреть мне в глаза. Разумеется, найди он в себе силы об этом заговорить, наверняка умолял бы никогда, никому, ни словом, ни намеком… Рука у меня, однако, не дрогнула: эти тяжелые, интимные сцены составили немалую часть романа, хотя даже отец, доведись ему прочитать книгу, признал бы, что автор размышляет не о его постыдной беспомощности и не о нем лично, а о неизбежности старения, о неотвратимости смерти. Но я и тут не остановилась: напротив, использовала его болезнь и страдание, со всеми пронзительными, важными для писателя деталями, а потом и его смерть, чтобы написать о его жизни и даже еще конкретнее — о его недостатках, человеческих и отцовских, которые, в отличие от старости, были его личным достоянием; я живописала их сочно и точно, во всех подробностях. Я выставила напоказ его ошибки и мои страхи, высокую драму моей юности, проведенной бок о бок с таким отцом, причем замаскировала я эту драму достаточно неуклюже, главным образом утрируя реальность. Я описывала все отцовские «преступления» так, что простить их не было никакой возможности, а потом прощала. В конечном итоге все это, конечно, делалось, чтобы подчеркнуть, сколь дорогую цену я заплатила, чтобы научиться состраданию, а финал книги провозглашал торжество дочерней любви и скорбь о потере. Тем не менее за недели и месяцы, что предшествовали публикации, меня не раз захлестывало тошнотворное чувство, омерзение какое-то, оно накатывало черной волной и так же быстро отступало. В интервью я всячески подчеркивала, что книга моя — чистой воды вымысел, и порицала журналистов и читателей, которые склонны считать любой роман биографией автора, отказывая ему в воображении, словно он бесстрастный хроникер, а не неистовый творец. Я защищала свободу писателя — свободу воображать и создавать, дополнять и изменять, разрушать и расширять, приписывать смыслы и воплощать замыслы, затрагивать душевные струны, выбирать образ жизни, экспериментировать и так далее, я даже цитировала Генри Джеймса — о «могучем всплеске» свободы, об «откровении» свободы, которое непременно является тому, кто предпринял серьезную попытку что-то сотворить. Да, когда я писала этот роман, который очень быстро, если не смели, то разобрали с прилавков книжных магазинов по всей стране, я в самом деле ощущала всплеск свободы, беспрецедентной писательской свободы от ответственности за что бы то ни было, кроме собственных инстинктов и видения. Может, прямо я этого не высказывала, но, конечно, подразумевала, что писателя ведет глас свыше, который в искусстве и религии зовется призванием, посему писатель не может слишком трепетно относиться к чувствам тех людей, из чьих жизней он заимствует материал для творчества.