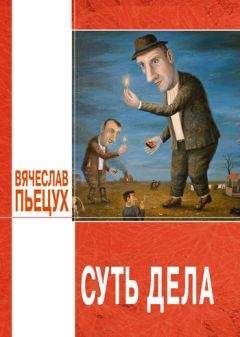ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ - НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
— Что, в сущности, стоит вся мировая философия, — говорил он, — если она не в состоянии ответить на простейший вопрос: почему в каком–нибудь Штутгарте невозможно получить по морде за просто так, а у нас — свободно?..
Спустя короткое время после того, как чинариковский голос затих в дальнем конце коридора, и немедленно после того, как Пумпянская ушла в свою комнату, Генрих Валенчик принял секретное выражение, то есть как–то по–заговорщицки напыжился, и сказал: Я имею точные сведения, что с часу на час наша старушка отдаст концы. Предлагаю провести собрание на тему: кому достанется освободившаяся жилплощадь.
— Мне и достанется, — сказал Фондервякин, — я тебя об этом безо всяких собраний предупреждаю.
— А вот мы сейчас и рассмотрим коллегиально твою претензию на жилье! Или ты противопоставляешь себя общественному мнению? Имей в виду, такого оголтелого индивидуализма мы не потерпим — это я тебе искренне говорю!
Валенчик строго посмотрел на Фондервякина и пошел собирать жильцов. Минут через пять в кухню набилось все население двенадцатой квартиры за исключением Пумпянской и Чинарикова с Белоцветовым, которым было ни до чего.
— Вот это по–нашему, по–советски! — с огоньком в глазах сказала Анна Олеговна Капитонова. — И радости, и горе, и проблемы — все решается сообща! Прямо как было в Олимпиаду…
И все припомнили, как действительно во время Московской Олимпиады двенадцатая квартира столковалась временно прекратить обширный скандал, который разгорелся из–за того, что фондервякинское корыто свалилось на голову Юлии Голове.
— Давайте, товарищи, без лирики, — попросил Валенчик, — давайте, товарищи, ближе к делу. Завтра, может быть, комната в квартире освободится, а у нас еще нет никакого коммюнике…
— Причем коммюнике должно быть такое, — — вступила Юлия Голова, — мы вот прямо сейчас обязаны договориться, кто из нас имеет бесспорное право на расширение метража.
— Больше всех прав у нас, — сразу решила Люба. — Потому что мы живем втроем да еще мать у нас — одиночка.
— Тем более что я разнополый, — добавил Петр.
— Грамотный ты больно, как я погляжу, — сказал ему Фондервякин.
— Нет, товарищи, это превратный, какой–то количественный подход, — сказала Анна Олеговна и гордо тряхнула своими фиолетовыми колечками. — Давайте посмотрим на качественную сторону дела: вот мой Дмитрий совсем уже стал молодой человек, а все со старухой да со старухой… — В этом месте Анна Олеговна сердито посмотрела на Фондервякина и заключила на всякий случай: — А вы, Лев Борисович, о своих моченых яблоках даже не заикайтесь!
— Конечно, надо решать по совести, — сказала Вера Валенчик. — Моченые яблоки — это смешно, вот я скоро рожу, так это, товарищи, не смешно*
— Так! — отозвался Митя, — Только давайте без демагогии! А то совесть какую–то приплели…
Дальнейшее развитие переговоров можно безболезненно опустить, поскольку ничего принципиально нового и значительного сказано больше не было и вообще совещание ни к какому решению не пришло. Единственный итог, который сложился помимо воли его участников, заключался в том, что всем стало ясно: даже если Александра Сергеевна Пумпянская совершенно здорова, к утру она обязана умереть.
В одиннадцатом часу вечера народ разошелся по своим комнатам и квартира угомонилась, Еще некоторое время из–за дверей доносилось бубнение телевизоров, но затем окончилось и оно. Наступила пора вещей.
4
Впрочем, двенадцатая квартира еще не спала, а только–только собиралась на боковую. Юлия Голова сидела за туалетным столиком, приготавливая себя на ночь, Любовь стелила постели, а Петр медленно, с отвращением раздевался. У Валенчиков было так: Вера уже лежала в постели, положив на лицо газету, а Генрих Иванович, низко–низко склонясь над обеденным столом, слышно царапал пером бумагу. Фондервякин сидел перед выключенным телевизором и вырезал из резинового коврика прокладки для своих банок. Чинариков читал у себя избранные речи Цицерона, Белоцветов у себя — «Вестник фармакологии», Анна Олеговна чем–то неприятно шуршала за старинной китайской ширмой, которой она на ночь отгораживалась от Мити, Митя же торчал за своим столом и опять колдовал над какими–то стеклышками, детальками и разноцветными проводками. Что касается Александры Сергеевны Пумпянской, то она просто сидела на стуле посреди комнаты, скуки ради припоминая один давний вечер: год то ли двенадцатый, то ли тринадцатый — довоенный, она еще юна, еще живы отец, мать, братья; вся семья собралась в столовой за чашкой чая; поздний вечер, столовая наполнена ровным зеленым светом, потому что электрическая лампочка оправлена в люстру аквамаринового стекла, сановито тикают напольные часы, поднесенные отцу на какой–то юбилей его педагогической деятельности, изредка позванивают в кузнецовских чашках серебряные ложечки, за окном воет ветер; Сергей с Владимиром играют в маджонг, а Георгий читает вслух Тэффи, держа в левой руке подсвечник в виде выеденного яйца с полупрозрачным стеариновым огарком, и давится смехом через каждые десять слов… — господи, какое чудесное, какое родное воспоминание!
Около половины одиннадцатого Фондервякин кому–то звонил, чуть позже в коридоре немного пошумел Митя Началов, потом Белоцветов прошаркал в сторону туалета, но едва повернув направо, остолбенел, потому что ему открылась следующая картина: посреди темной кухни, в бледном параллелограмме, образованном светом с улицы и окном, сидел на горшке Петр Голова и держал перед собой развернутую газету. Собственно, в этой картине не было ничего удивительного, наверное, Петр просто подражал нашей мужской манере делать два этих дела одновременно, и тем не менее Белоцветов почему–то был ошарашен.
— Петь, ты чего? — неровным голосом спросил он.
— Ничего, — сказал Петр, спокойно посмотрев на Белоцветова из- за газеты, и как бы вновь углубился в чтение.
Словом, двенадцатая квартира еще не спала, но уже наступила пора вещей. Неведомо откуда и куда прошелся по полу сквознячок, задышали несколько квадратных сантиметров обоев, поотставших в том месте, где стоял беспризорный шкаф, и в районе этажерки что–то шепнулось само собой; потом вступили водопроводные трубы, которые начали приглушенно чревовещать, но вдруг замолчали, как если бы их кто–нибудь оборвал; где–то посыпалась известка, что–то такое пискнуло, совсем уж неузнаваемое, таинственное, на кухне по собственному почину скрипнула половица. Тут из своей комнаты вышел Генрих Валенчик, и вещи временно притаились. Валенчик сунул в рот папиросу, несколько раз прошелся по коридору туда–сюда, немного постоял возле фондервякинского корыта, а затем вернулся к себе, оглушительно хлопнув дверью. И снова пусто, снова пора вещей, но пока не в полную силу, точно вещи были, как говорится, в курсе, что еще Пумпянская не проверяла по обыкновению, везде ли погашен свет.
Без четверти одиннадцать в коридоре раздался отвратительный женский крик; крик был дикий, какой–то зоологический, на который горловые связки способны, наверное, только в тех редких случаях, когда человек сталкивается с чем–либо слишком ужасным, пограничным возможностям восприятия. Квартира немедленно ожила: из–за дверей послышалось движение, голоса, и в следующую минуту жильцы кто в чем высыпали из комнат. Посреди коридора в халате, застегнутом на одну пуговицу, из–под которого виднелась сбившаяся ситцевая рубашка, в бигуди, в золоченых индийских шлепанцах как вкопанная стояла Юлия Голова; лицо ее посерело, глаза были вытаращены, рот дрожал.
— Ты что орешь как резаная? — зло спросил ее Фондервякин.
В ответ Юлия только полуподняла руку в направлении входной двери.
— Что случилось–то? — взмолился Генрих Валенчик. — Ты толком можешь нам объяснить?
— Там… — начала Юлия и окончательно подняла руку в направлении входной двери, — там сейчас стояло привидение какого–то мужика…
Несмотря на то, что при этих словах у всех, как говорится, екнуло сердце, никто из жильцов Юлии не поверил. Разумеется, было бы удивительно, если бы кто–нибудь ей поверил, и все же несравненно удивительнее то, что ей никто решительно не поверил, поскольку привидения — это тайная страсть нашей литературы, которая поэтому и внедряет их в самые посконные ситуации, а мы народ крайне литературный и даже не так доверяем жизни, как романам и повестям. Наконец, то положение, в каком оказалась Юлия Голова, представляло собой не более как житейскую вариацию того положения, в каком сто двадцать лет тому назад оказалось одно якобы вымышленное лицо:
«— …А, кстати, верите вы в привидения?
— В какие привидения?
— В обыкновенные привидения, в какие!
— А вы верите?
Да, пожалуй, и нет, pouv rous plaire (что бы вам угодить (франц)). То есть не то что нет…