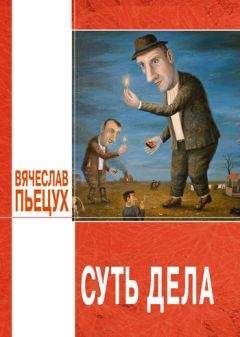ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ - НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
— А вы верите?
Да, пожалуй, и нет, pouv rous plaire (что бы вам угодить (франц)). То есть не то что нет…
— Являются, что ли?
— …Марфа Петровна посещать изволит, — проговорил он, скривя рот в какую–то странную улыбку.
— Как это посещать изволит?
— Да уж три раза приходила…
— Наяву?
— Совершенно. Все три раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь; всегда в дверь. Даже как будто слышно.
— …Что же она вам говорит, когда приходит?
— Она–то? Вообразите себе, о самых ничтожных пустяках, и подивитесь человеку: меня ведь это–то и сердит…»
— Померещилось, — успокоительно произнесла Анна Олеговна, которая вышла еще в довольно пристойном виде, то есть причесанная и в халате. — Это тебе, Юлия, просто–напросто померещилось. Не пей на ночь крепкого чая, а пей настой валерьянового корня или же та- зепам: как рукой снимает потустороннее…
— Ну, вы тоже насоветуете, — заметил Белоцветов, одетый не по–домашнему: брюки, рубашка, галстук.
— Дожились! — сказала Вера Валенчик. — Уже привидения в квартире завелись! Тараканов мало, так давай теперь привидения! Нет, когда же наконец разнесут к чертовой матери этот многоэтажный клоповник и предоставят людям благоустроенное жилье?
— Этот вопрос я предлагаю адресовать президенту Рейгану, — сказал Генрих, на котором была сетчатая майка и черные сатиновые трусы. — А ты, Пенелопа, — это уже Вере, — — давай–ка бегом в постель, ты посмотри, в каком ты эротическом виде — тут у нас все же не кабаре!..
Действительно, Вера Валенчик выскочила босой и в одной сорочке.
— Не пойму, — сказал Митя Началов, как–то презрительно сощуривая глаза, — американцы–то тут при чем?
— А при том, — отозвался Генрих, — что по милости вашингтонской администрации мы вынуждены предпоследнюю рубашку жертвовать на гонку вооружений, вместо того чтобы строить благоустроенное жилье!
— Борьба двух миров, — с многозначительным видом подтвердил Фондервякин, стоявший неподалеку от своего корыта завернутым в полосатую простыню. — Не мытьем, так катаньем норовит нас достать американский империализм. Но я так скажу: если ради мира на планете нужно будет как–то сосуществовать с привидениями — я ничего не имею против.
Чинариков спросил его, делая ёрническое лицо:
— А что, Лев Борисович, как вы думаете: нет ли в советском департаменте ЦРУ ответственных за картошку, то есть таких специальных агентов империализма, которые отвечают за то, чтобы в наших магазинах с картошкой были бы постоянные перебои?
— Есть! — ответил Фондервякин, насупив брови, и отправился в свою комнату.
— Так какая же все–таки будет резолюция этому случаю с привидением? — спросил, ни к кому отдельно не обращаясь, Генрих Валенчик и картинно сунул руки себе под мышки.
— А какая тут может быть резолюция… — сказал Белоцветов. — Не эпидемстанцию же против призраков вызывать. Как справедливо заметила твоя Вера, это все же не тараканы.
— Резолюция будет такая, — добавила Анна Олеговна, — крепкого чая на ночь не надо пить!
Вслед за этими словами раздался голос Пумпянской, которая показалась в дальнем конце коридора в своем вечном штапельном платье, при кружевах.
— Помилуйте, — сказала она, — на часах скоро полночь, а у вас тут целая демонстрация! Случилось чего–нибудь?
— Случилось, — ответил Митя. — Привидение завелось. Прямо шотландский замок, а не квартира…
И все начали расходиться.
Больше в этот вечер ничего интересного не случилось, только около полуночи Пумпянская отправилась проверять, везде ли потушен свет и хорошенько ли заперта дверь в прихожей.
А наутро она исчезла.
Часть вторая
Суббота 1
Несмотря на то, что с первого взгляда такая задача может показаться если не праздной, то во всяком случае умозрительной, было бы очень кстати как–то разобраться в тех отношениях, которые существуют между жизнью и тем, что мы называем литературой. Решить эту задачу, конечно, будет не просто, поскольку их отношения архиневразумительны, но заманчиво: во–первых, заманчиво выяснить, в какой степени изящная словесность есть игра, а в какой — книга судеб, учебник жизни: во–вторых, определившись в этих объяснительных степенях, в принципе можно выйти на разгадку кое–каких тайн духа и бытия, потому что, чем черт не шутит, может быть, литература в состоянии гораздо больше поведать о жизни, чем жизнь о самой себе; в–третьих, известно, что литература есть бытие превращенное, преломленное через художественный талант, и преломленное как–то так истинно, что в Татьяну Ларину веришь вернее, нежели в соседку по этажу; наконец, если совсем не жить, то есть жить, но совершенным пустынником и аскетом, а только читать величественные книги, то вот что чудно — это будет по крайней мере занимательная жизнь.
Как–то разобраться в отношениях, сложившихся между реальностью и ее художественной ипостасью, можно, например, при помощи простейшего уравнения: √ жизнь Х талант=литература. Что такое жизнь, мы вроде бы знаем — продолжительный праздник личного бытия; что такое корень из жизни, мы можем себе представить — удавшийся праздник личного бытия; что такое литература, мы вроде бы тоже знаем — тот же праздник, но только сдвинутый по горизонтали времени и пространства, тот же праздник, но только взятый таким образом, что он умножается на талант. Мы вот только не знаем, что есть талант. Это, конечно, всем иксам икс, такой безответный икс, что о нем ничего не скажешь вразумительнее того, что талант — это во всех отношениях глухая величина. Посему математический подход тут не годится, поскольку в уравнении V жизньХталант=литература неизвестное так глубоко неизвестно, что оно оставляет слишком много загадочного пространства.
Кое–какие соображения навевает, например, то обстоятельство, что любая попытка воссоздания реальности средствами художественного слова, даже если она беспомощна, даже если она строго документальна, неизбежно превращается в ее противоположность, то есть в литературу. Следовательно, искомые отношения — это строго закономерные отношения, даже, может быть, роковые.
Еще такое любопытное наблюдение: жизнь в сравнении со словесностью гораздо пестрее, бестолковее, вариантнее, подробнее и нуднее. Отсюда вытекает одно причудливое предположение: может быть, литература–то и есть жизнь, то есть идеал ее построения, эталон всех мер и весов, а так называемая жизнь — набросок, подступы, заготовка, а в самых счастливых ситуациях — вариант. Нет, честное слово, больше всего похоже на то, что литература — это чистовик, а жизнь — черновик, да еще не из самых путных.
Изредка, правда, случается так, что жизнь человека некоторыми своими частностями прорастает в литературу, как это, например, бывало с Николаем Успенским, когда он в нетрезвом виде таскался по кабакам с интересной композицией на руках — двухлетней дочкой и чучелом крокодила. Но такое случается крайне редко; правило все же состоит в том, что принцип жизни — это одно, принцип литературы — совсем другое.
Ведь как делается дело в литературе:
«— Милостивый государь, — начал он почти с торжественностью, — бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок–с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгонят, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!..»
А вот как бывает в жизни…
В субботу утром, в восьмом часу, Митя Началов пришел на кухню, еще пустую, за ночь как бы отвыкшую от человека, и принялся готовить завтрак, что было случаем редким, даже исключительным, и даже это было происшествие, а не случай. Вскоре после него появился Василий Чинариков, который с чувством пронес в ванную комнату свой обнаженный торс. Потом на кухню пришел Белоцветов с горлом, обмотанным, как шарфом, вафельным полотенцем. Потом к присутствующим на кухне прибавился Фондервякин и всех удивил, так как он был пьян, невзирая на ранний час.
— Где это вы, Лев Борисович, так назюзюкались? — спросил Митя.
— Да тут же, на кухне, и назюзюкался, — ответил Фондервякин и грузно уселся на табурет. — Открыл с горя одну трехлитровую банку моченых яблок, и вот вам, пожалуйста, результат. Но с утра, оказывается, выпить — самое то, тонизирует, и вообще.„
Митя предположил:
— Наверное, у вас, Лев Борисович, вместо моченых яблок получился обыкновенный самогон.
— Пьяные яблочки, это точно.
— И как вы только не боитесь, отчаянный вы человек? — сказал Белоцветов и ухмыльнулся. — Ведь сейчас за самогон можно получить почти столько же, сколько за государственную измену!