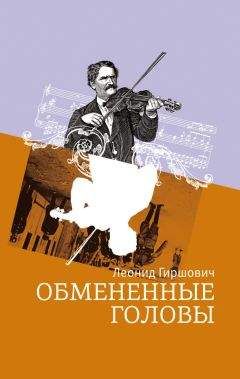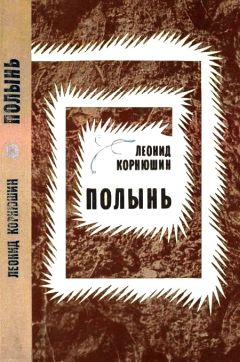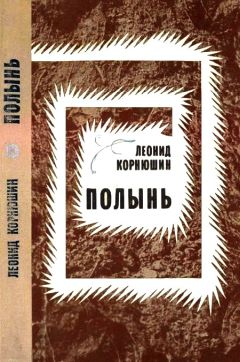Леонид Гиршович - Шаутбенахт
Боже, какая дичь развелась в мозгу… Мыслью надо уметь управлять, этому надо учиться. Это важно, поскольку мысль приобрела для тебя иное значение — она уже не гарнир, она уже не с краю тарелки… все хочется заесть эту гадость, чем-то заесть и запить. Продолжаю: для слепого, большая часть желаний которого может быть исполнена только мысленно, мысль — это прямое выражение воли. Поэтому слепому за мысли воздается как за дела. («За блуд лишь мысленный — мне жаль тебя», — читает Муня, а в гостиной кто-то разыгрывает «Танец Анитры».)
«Все это со мной как будто уже было», — подумал Муня. Где, когда — Бог весть. Даже и не пытайся вспомнить: не сможешь, и только останется чувство подавленности, неразрешенности. Так оно всегда при тщетных розысках в памяти — например, того же лазарета на траве, где Муня лежал как минимум дважды.
Но одно ощущение, тоже отбрасывавшее куда-то тень (первоначально — в необитаемое сознанием прошлое), узналось: бьющие в нос запахи — без «чехольчиков» — были точно как после операции аппендицита. Тогда на несколько часов больничная стерильность — под воздействием эфира, как ему объяснили, — обрела свойство пахнуть «всеми цветами радуги». Потом это прошло, сменившись заурядным нюхательным «дальтонизмом», ну, может быть, чуть меньшим, чем у других.
Вывод: была проведена операция? Наркоз?! (Обожгло Муню, обожгло — потому что на сей раз горячо?) Вывод, от которого Муня сник. Представилось, как под скоропалительным ножом хирурга в полевых условиях было принято окончательное решение по вопросу о Муниных очах: чик-чик, очищено, продезинфицировано, завязано — следующий! Выходит, он все еще на что-то надеялся — а раз уж был наркоз… и нож… в палатке… При этом, подхалимски поддакивая, снова защипало и засвербило под бинтами, хотя уж унялось, казалось.
Он гнал от себя навязчивое натуралистическое видение того, как там сейчас, после всего. Налетел бы ветер и сорвал с него повязки — что б увидел идущий навстречу крестьянин с дикой розой за ухом? (В Латгалии или в Семгалии попробуй вообрази себе крестьянина с розой за ухом! А здесь мужики ходят.) Что б он увидел? От груди, от сердца поднялось кверху… Муня испугался: можно ли теперь плакать, не сделается ли там от острых слез больно. Даже страх боли (как тень Мессии) — серьезный довод в пользу чего угодно.
По красной нитке, некогда связывавшей отчикнутый глаз с сердцем, ползет дрессированная отныне блоха. Она больше не скачет, теперь она медленно ползет — потому что дрессированная, потому что Муня стремится покончить с анархией мыслей. Нитка — провод, на конце провода повис молочно-белый шар, таких — три пары, заполненных электрическим светом, под кремовой лепниной потолка. В «Городском кафе» на Рамблас под одним из шаров, за соседним столиком, происходил такой диалог (Муня внимательно слушал немецкую речь, для него, в отличие от обоих споривших, фактически родную; впрочем, тот, что был в форме, говорил неплохо — с тем варварским произношением, которое выдает жителя бывших австрийских колоний, составляющих нынче весь этот автократический гадюшник на юге Европы; второй был праздный нордический турист, как показалось Муне, капитулянт и, судя по некоторой шепелявости, датчанин):
ВТОРОЙ. Надо только представить себе со всеми натуралистическими подробностями, как тобою — подчеркиваю, тобою посланный металл вторгается в плоть, дробит кость. (Он продекламировал.) «Еще немного, и — вдали отсюда зарыдают». Ты это должен постоянно видеть перед собой — за сценой все происходит только у Еврипида. Вот, точно как эти плафоны, повисли на ниточках глазные яблоки. И это твоя лепта — если граната брошена удачно. Это следует осознавать по-дикарски конкретно…
ПЕРВЫЙ. Готтентот, исповедующий Нагорную проповедь, — фальшивый идеал. Настоящего готтентота Нагорной проповедью не проймешь. А вырядившийся дикарем выпускник Кембриджа напрасно полагает, что это лучший способ избавляться от пороков буржуазной цивилизации. Современный мир и без того полон лицемеров как никогда еще.
ВТОРОЙ. Лицемерие — этим словом низшая ступень определяет свое отношение к высшей, в сфере нравов, поведения, искусства. Для кого-то ты лицемер — раз Торвальдсену предпочитаешь Генри Мура. Ну, а для кого-то — раз сморкаешься не в руку, а в платок.
ПЕРВЫЙ. Есть что-то дамское в пацифистах — сказал один великий поэт.
ВТОРОЙ. Если б он был действительно великим — он бы этого не сказал. Это не Оскар Уайльд, случайно?
ПЕРВЫЙ. Вы пытаетесь воздействовать на меня зрелищем боли, страданий, причиною которых я лично являюсь. Но есть какая-то последовательность, какой-то порядок — что за чем идет. Я не причина, я следствие — тех же повисших на ниточке глаз, каши из костей и мяса, вытекшего мозга. Ваши же полкило натурализма — можете их взять обратно. Бомбардировка Мадрида была раньше — потом уже моя граната. Нет! И в страдании — и в страдании тоже — существуют временные приоритеты. Морально боль не равна боли, смерть — смерти, даже если это смерть ребенка.
ВТОРОЙ. Именно этого-то вы и не понимаете: что человек, как сотворенный по образу и подобию Божию, существует в вечности — значит, только в настоящем времени. Всякий миг суверенен и самоценен, включая и миг страдания. Но нужно преодолеть земное притяжение, чтобы это понять…
ПЕРВЫЙ (насмешливо). Равно как и то, что прошедшее и будущее — это фикция, это грамматические формы, а причинно-следственная связь — всего лишь бусы из халкидских гробниц…
ВТОРОЙ. Это ты говоришь, игемон.
Перед Муней стояла тарелка с маленькими, как мидии, пирожными. Назывались они «эстрелла», это была здешняя специальность: янтарного цвета дольки с облитым глазурью гребешком и тончайшей, как засушенный лепесток, корочкой по краям, внутри заварной крем и чуть-чуть персикового варенья. Муня был не в силах остановиться (он был ужасным сладкоежкой), двумя пальцами он подносил ко рту «эстреллу», надкусывал кончик и слизывал первую капельку выступившего из трещины крема. Он лакомился вызывающе: слегка запрокинув голову, наблюдая из-под опущенных век, как медленно исчезает «эстрелла», наконец, к липким губам прикасаются такие же липкие пальцы, — после чего брал следующую.
Но уши — внимали чужим разговорам; это были трубы, ведущие непосредственно в мозг. «Слышимость важнее видимости», — подумал Муня… подумалось Муне, у него все еще не хватало воли всецело управлять своей мыслью — думать исключительно о том, о чем хочешь (не путать со свободой мысли: что хочу, то и думаю). В его положении это было даже утешительно — так себя уговаривать: мол, одно-единственное слово часто на всю жизнь западает в душу, а сказавшего — назавтра можешь уже не узнать.
За соседним столиком сменилась пара. Он — немолодой толстяк, она — девчонка. Муня, у которого сентавос в кармане оставалось не больше, чем «эстрелл» в тарелке, про себя обозвал девушку скверным словом, а мужчину и вовсе погнал штыком через линию фронта к фашистам. В итоге получилось все наоборот: до кого фашистам рукой подать — до него; толстяк же небось благоденствует себе в Барселоне, а эту девушку — и не подозревающую, что есть такой Муня, революционер, — он бы мог теперь узнать только своими якобы зрячими пальцами — так вроде говорят о слепых (общество позволяет им это, девушки терпят). Сценка «Слепой и девушка» возможна исключительно как пантомима, в роли слепого республиканца — Жан-Луи Барро.
В пункте «Пища наша» Муня, наверное, все-таки перебрал. Не в смысле обжорства, а что и сейчас бы своими зрячими пальцами любовался «эстреллой»: ел бы и осязал — не то что… Как раз был очередной привал, он снова «выжирал» фасоль из горсти. Хорошо, что еще не прямо мордой в торбу, словно там овес, а он — известное животное. Вокруг стоял (или пора переучиться: «в ушах стоял»?) привычный шум — шум присутствия, а не общения. Таким по природе своей является птичий гомон — к слову сказать, никогда еще, пожалуй, я не видел страны, в которой было бы так мало птиц. Нам случалось иногда замечать птиц, похожих на сороку, стаи куропаток, внезапно вспархивавших ночью и пугавших часовых, и, очень редко, медленно круживших в небе орлов, презрительно не замечавших винтовочной пальбы, которую открывали по ним наши солдаты, — правда, Муня бы не поручился, что так оно в действительности и было. Он сам говорил про птиц с чужих слов, повторял как попугай.
Но что было бесспорно, так это полдневная жара — в ночи-то кромешной. Они пошли дальше. Муня с оттенком бреда размышлял, что легче: жара при ослепительном свете дня или — мнимой ночью? Он вообразил такую игру — для себя и для своих товарищей по несчастью. Пейзаж в духе этого, с расстроенной психикой — ну, этого, Сальвадора Дали: редкие, но тенистые деревья на каменистом плато, по плато мечутся фигурки людей, им надо эти деревья отыскать, чтобы спрятаться в их тени. Это как на детском бильярде: никелированный шарик мечется, один угодит в лунку, а другой, зигзагами, так и промчится — в пекло.