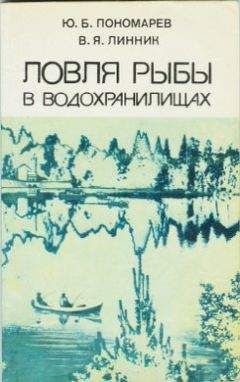Лоуренс Норфолк - Носорог для Папы Римского
Внизу, в нефе церкви Сантиссими-Апостоли, в двадцати футах над полом, раскачивается свинья, подвешенная за ноги. Вскоре к ней присоединяется и кадило, извергающее струи густого дыма, которые пересекаются, разделяются на части более быстрым качанием свиньи, и наконец пахучие клубы ладана отправляются на борьбу с пагубными испарениями крипты. Слуги, держащие в руках до краев наполненные маслобойки, сбились в кучку в дальнем конце галереи. «Выровняйтесь, вы, там! Надо, чтобы ровно!» — ревет мажордом с мощной выпуклой грудью, уставившись в непонимающие лица. Двое-трое принимаются дергать за шнуры, с помощью которых натягиваются на ногах панталоны. «Рассредоточьтесь! Встаньте равномерно!» Он указывает на противоположную сторону нефа. Они хватают за ручки сочащиеся влагой маслобойки. Разносчики цыплят тоже строятся. «Не вы!» Разносчики цыплят останавливаются. Любовница Вича опять создает какую-то проблему. Асканио пытается сделать что-то вроде стойки на руках, а Виттория, похоже, молится.
Внизу же, сопровождаемый по бокам диаконом и субдиаконом, под гогот окруживших его чумазых мальчишек, могучими шагами шествует по нефу медведеподобный человек. За преградой он со стуком водружает на алтарь потир, потом Библию. Мальчишки выстраиваются в шеренги по обе стороны алтаря и принимаются за разминку, делая глубокие вздохи и издавая пронзительные крики. У дверей, из-за которых теперь слышатся неясные звуки — приглушенные крики, свист, непонятный топот, — встают привратники. Отец Томмазо, хрустя суставами пальцев, оглядывает свой хор, привратников, бросает взгляд на галерею, откуда ему важно кивает в ответ мажордом. Диаконы уже исчезли за маленькой дверью, ведущей в трансепт, и отец Томмазо следует за ними.
Ризница как-то скомкана: кажется, что угол некоего другого строения врезался в ее лицевую стену и сел там на мель, будто нос корабля без руля и ветрил, по сути, разделив некогда четырехугольное помещение на два треугольных. С помощью диакона он натягивает на себя стихарь, ризу, надевает шапочку, епитрахиль; все роются в груде одеяний, прежде чем он подпоясывается поясом для стихаря, который наконец подает ему брат Бруно — крепкий кудрявый уроженец Рипетты. Брат Фульвио возится с навощенными фитилями, свечами и комочками ладана, обильный дым которого вскоре заполняет все их уютное пристанище. Отец Томмазо и Бруно обмениваются взглядами. Брат Фульвио высок и гибок, у него светлые волосы и голубые глаза, он прибыл из Перуджи три недели назад и был определен к отцу Томмазо его епископом, очарованным рекомендациями, в которых упоминалась «смиренность святого Франциска». Что ж, приручать волков — это одно дело; Томмазо же хотелось посмотреть, как «святой Франциск» сумеет совершить мессу для семейства Колонны.
— Будут разные происшествия, — начинает он, — но пока свечи не перевернутся…
В этот момент до всех троих доносится пронзительный вой, переходящий в сопрановый вопль, а тот — в своего рода визг, что идет из основного корпуса церкви: Ex-cla-ma-ve-runt ad te (пауза) domin-e-e-е-е…[17] Хористы заводят свои песнопения.
— Идиоты! — гаркает отец Томмазо, когда более звучный грохот начинает эхом отдаваться по всему нефу.
Эти стуки и крики суть не что иное, как призывы верующих к своему пастырю. Бруно вручает ему орарь, зажигает свечи, меж тем как из алтаря вплывает первое Alleluia-a-a-a! За ним следует второе, более продолжительное и ликующее, и все это смешивается с еще большим количеством воплей и стуков, а также с визгом раскачивающейся свиньи. Фульвио закрывает крышку кадила, крестится и первым выходит в церковь. Exultate justi…[18] — вибрируют голоса хористов. Introiboad-altaredri-e-e-e[19], — мурлычет отец Томмазо. Ad deum quiletificatinventutam me-am[20], — напевает Бруно. Judica me, Deus, — здесь это раскатывается в полную мощь, и хор, мимо которого они проходят, предстает во всем своем великолепии. Они снова увязают в рутине богослужения. Он бормочет: Deus, tu conversus vivificabis nos… В ответ раздается: Et plebs tua letabitur in te[21]. Церковь освещена свечами, укрепленными на колоннах, что поддерживают галерею. Веревки, на которых свисают кадило и свинья, кажется, перехлестнулись, потому их распутывают (Domine exaudi orationem meam…[22]) служки, перегнувшиеся через перила и склонившиеся над нефом. Сверху на него поглядывают: Виттория (исполненная восторженного внимания), Асканио (с явной скукой), дон Джеральдо и Вильфранш. Старик с непроницаемым лицом смотрит прямо перед собой. Позади него стоит какой-то вояка, вертящий в руках свой шлем, а три совершенно одинаково одетых женщины заняты тем, что… хотя нет, их вовсе не три. Всего одна, очень толстая. Неожиданно, когда хор в двенадцатый раз возглашает «Аллилуйя!», свинья и кадило снова начинают раскачиваться, и дым с визгом снова разливаются по церкви. Дверь содрогается, словно в нее ломятся снаружи, и отец Томмазо кричит через весь неф своим привратникам: «Готовы?» Те кивают и направляются к дверям, чтобы отодвинуть засовы. Dominus vobiscum, — напевает он, когда их маленькая процессия достигает алтарной преграды. Томмазо поворачивается, разминает плечи, занимает позицию перед преградой. Бруно в ответ бормочет: Et cum spiritu tuo…[23] Они переглядываются, старые товарищи и ветераны. Фульвио же следует дальше, исчезая за преградой.
— Что? — негромко спрашивает Колонна, на какое-то время погрузившись совсем в другие мысли. — Мы уже начали?
— Хорошо, — командует священник своим привратникам. — Впустите ублюдков.
Дон Диего наблюдает, как сдвигаются в сторону тяжелые перекладины, которые на мгновение застревают, поскольку на двери давят снаружи, а затем рывком высвобождаются. Привратники пошатываются, внезапно обремененные полным весом дубовых брусьев, а двери столь же внезапно кажутся совершенно невесомыми, ибо они дрожат, грохочут и легко распахиваются, открывая застывших в дверном проеме верующих — рты у них разинуты, и все они, напуганные и безмолвные, стоят на пороге, не в силах пошевелиться. Пара, оказавшаяся впереди, оторопело оглядывается на колышущееся сзади море голов. Это мгновение невероятно. Никто не в состоянии до конца поверить в происходящее. Секунду-другую шеренга стиснутых в ожидании тел набухает, а затем прорывается, высылая дозоры и авангарды, чтобы пробить брешь в незащищенной оболочке церкви.
Ее защитники занимают позицию чуть позади амвона, причем Бруно становится посредине, напружинив ноги и свободно опустив руки, ко всему готовый. Он исподлобья наблюдает за приближающимися прихожанами. «Осади… Осади!» Необходимо запугать их с самого начала. Он выделяет из толпы дородного типа с мастиффом на поводке, которого подталкивают вперед несколько более робких оборванцев. «Ты! Да, ты! Никаких собак!» Никто не обращает на него внимания. Они осуществляют фланговый обход слева. Диего одобрительно кивает, видя подобную тактику. Задержать их, думает Бруно. Принять их удар здесь. К обходу слева присоединяется продвижение справа — часть охватывающего маневра, — и теперь, когда их центр находится посередине нефа, подталкиваемый телами сзади и притягиваемый роскошью свободного пространства впереди, отступление Бруно становится неминуемым. Отступать надлежит взвешенно, не показывая, что делаешь это вынужденно. Шаг — остановка, шаг — остановка. Господи боже, один из них приволок с собой пару цыплят! Бруно возводит очи горé, где по-прежнему раскачивается свинья, повергнутая в молчание приливом потных тел внизу. Ладно, не до нее.
Те, что уже вошли в церковь, успокаиваются или почти успокаиваются — тычки локтями, шуршание и шарканье еще не прекратились. Продвижение тех, кто снаружи, замедляется, попытки пробиться-пропихаться становятся все более безнадежными, и наступает некое подобие равновесия. Поле за нами, думает наверху дон Диего. Водружайте знамена.
Но у прихожан, собравшихся праздновать день святых Филиппа и Иакова, не было знамен, они не знали никаких победных криков, помимо урчания в своих животах, так что им оставалось только толпиться да тупо толкать друг друга. Что дальше?
Похоже на Прато, думает дон Диего. На ужасное спокойствие Прато в те немые мгновения, когда еще не были извлечены молотки и гвозди, запалены костры и вынуты стаканы с костями. Бесцельное зияние зевоты, вязкое болото непротивления жителей Прато. Вскарабкавшись по невысокой башенке к той бреши, которую усердная канонада проделала наконец в городской стене, — день клонился к вечеру, — дон Диего увидел, что защитники Прато либо спасаются бегством, либо с неловким видом слоняются близ ворот Серральо, словно дети, застигнутые за игрой в прятки и понимающие, что для подобных глупостей они уже слишком большие. Его алебардщики сбивали их в кучу, но повсюду царил беспорядок, и, оказавшись перед лицом противника, жители Прато, пожимая плечами, бросали свое оружие. Сам же он так сильно стискивал эфес сабли, что тот, казалось, пронзил ладонь и приварился к костям руки — настолько рука и клинок стали неотделимы друг от друга. Он не понимал этой уступчивости, этой мягкотелости — подобной той, что свойственна заигрывающей собаке, которая, сколько ни отпихивай ее ногой, готова будет вернуться и тыкаться в тебя носом, выпрашивая подачку, — не понимал этого опротивевшего ему бездействия. Оно выводило его из себя. И как же близки ему были чувства одного из алебардщиков, который, крича и сыпля проклятиями — хотя это казалось смехотворным, натянутым, вымученным, — выволок из толпы покорного горожанина, поставил к стене, которую тот обязан был защищать, древком пики сбил его с ног, а острием пригвоздил к земле. Отвернувшись от зрелища этой жалкой казни, Диего был по-прежнему неудовлетворен и чувствовал, что его гложет все тот же вопрос. Что же дальше? Что последует теперь?